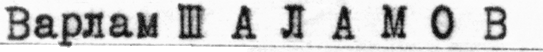
Варлам Шаламов. Воспоминания лечащего врача
 |
Я вспоминаю далёкие военные годы. Мы жили в эвакуации в заброшенной сибирской деревне. Я с ребятами носился по пыльным улицам, заглушая свой постоянный голод. Солнце летом греет там беспощадно. Вдруг вдали появились облако пыли и какая-то движущаяся масса, и чем ближе они отделялась от горизонта, тем более прояснялась огромная человеческая колонна. Она была окружёна людьми в гимнастёрках с оружием – автоматами и винтовками. Стоял глухой шаркающий монотонный шум, изредка прерываемый криками охраны. Большинство идущих были изнурённые, с поникшими головами мужчины, одетые в серые фуфайки. Что мне особенно запечатлелось в памяти и запомнилось – это небольшое количество женщин, тоже в фуфайках, в платках и некоторые из них с детьми пелёночного возраста на руках. Пелёнки были тёмно-серого грязного цвета. Лица людей были мёртвенно-спокойные. Иногда солдаты подталкивали оружием отстающих и тех, кто как-то отделялся чуть в сторону от строя. Вся колонна двигалась медленно, затем постепенно уходила за следующий горизонт. Некоторые мои деревенские товарищи знали, видимо по разговорам дома, что это гонят «врагов народа» и пытались иногда кидать в них придорожные камешки. Но конвоиры криками останавливали их. У меня тогда появилось, а затем осталось навсегда чувство глубокой жалости к этим людям. А картина с женщинами, несущими завёрнутых в пеленки младенцев, скорбно стоит перед глазами и по сей день.
Много лет спустя, когда я читал «Один день Ивана Денисовича» Александра Исаевича Солженицына, а затем «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова, каждый раз эта трагическая картина живой-мёртвой колонны с печальной колоритностью оживала в моей памяти.
Шёл 1978 год. Я – врач-невропатолог 67-ой городской больницы города Москвы замещал ушедшего в отпуск заведующего неврологическим отделением доктора Бориса Захаровича Карасина. Принимаю доклад медицинского персонала и врачей на утреннем рапорте о поступивших больных. За ночь их привозили немало. Среди новеньких прозвучало какое-то необычное для слуха москвичей имя – Варлам Тихонович Шаламов. Кроме необычно звучащего имени, ничего больше оно мне не говорило. По распределению больных на летучке вести его досталось мне.
И вот я обследую высокого худого человека с глубокими морщинами на лице и подбородке. Общение с ним было затруднено из-за значительно пониженного слуха и зрения. Кроме того, этому мешали судорожные движения в лице и бросковые судороги в руках и ногах. Он сразу сообщил мне, что он фельдшер и когда-то работал в Сибири. О том, что он писатель и прошел как заключенный Колымские лагеря, в первый раз ничего не сказал.
Шаламов поднимался и ходил с невероятным трудом, нуждался в помощи для передвижения. Я поместил его, узнав о его медицинских заслугах как фельдшера, да ещё из далекой Сибири, в привилегированную двухместную палату. В остальном – больной как больной, хотя и трудный и требовательный.
Несколько дней спустя одна из моих больных Любовь Рафаиловна Жерардье, необыкновенно интеллигентный и приятный человек, старавшаяся помочь больным, которые были в ещё худшем положении, чем она, выяснила какие-то подробности о Варламе Тихоновиче и даже телефон Людмилы Владимировны Зайвая, его секретаря. (Помню, что даже после выписки, Любовь Рафаиловна навещала Шаламова и приносила ему продуктовые передачи.)
Людмила Владимировна Зайвая принимала живое участие в судьбе Шаламова, была для него незаменимым человеком в течение последних нескольких лет его жизни. Как я узнал в последствии, из-за сложности характера Шаламова, усугубившимся ещё и его болезнью, поразившей нервную систему, они рассорились и не встречались какое-то время, и она не знала о его госпитализации. Домком, где он в то время жил, по собственной инициативе отправил его в 67-ую больницу по рекомендации врачей. Узнав о том, что Варлам Тихонович в госпитале, Людмила Владимировна немедленно явилась в больничное отделение.
В тот день я дежурил и помню длительную беседу с Людмилой Владимировной. Тут же впервые она мне сказала, кто такой фельдшер Варлам Тихонович Шаламов. До его появления я не знал абсолютно ничего о Шаламове как о писателе и поэте, пока не встретился с ней. С её помощью мы разговаривали с ним, она была как бы переводчиком, так как общение с ним было затруднено из-за его дефектов зрения и слуха. Так в течение долгих четырех месяцев я был лечащим врачом этого выдающегося, с трагической судьбой и очень больного человека. Несколько раз я встречался и говорил со знакомым Шаламова Юлианом Анатольевичем Шрейдером, который иногда навещал Шаламова. От него я впервые услышал многозначительную фразу: «Это настоящий писатель, это большой талант…».
Отрывочно, при хорошем настроении, которое бывало у Шаламова не очень часто, я пытался расспрашивать о его жизни на Колыме. Ответы иногда были несвязные, иногда холодно-жёсткие, вызывали во мне ужас того, что пережил этот человек и огромное к нему сочувствие. К тому времени Александр Солженицын был уже всемирно известным писателем и его «Архипелаг Гулаг» стал именем нарицательным. Я спросил мнение Шаламова о нем. Он пришёл в сильное возбуждение. Первое, что я услышал от него, что Солженицын предлагал ему совместно писать «Архипелаг Гулаг», но он от этого отказался. Говорил, что настоящий «Архипелаг Гулаг» описан им. Он считал, что является очевидцем, который не попытался приукрасить лагерную действительность и что он говорит истинную «голую правду». Шаламов утверждал, что его «Колымские рассказы» по сравнению с «Иваном Денисовичем» намного трагичнее. При этом всё больше возбуждался в разговоре, нервничал, лицо судорожно передергивалось, иногда ронял предметы со своего прикроватного столика.
Познакомились Александр Исаевич Солженицын с Шаламовым, по его словам, в 1962 году, переписывались, при наездах в Москву встречались позже. Намного позднее я прочитал опубликованные письма Шаламова к Солженицыну. Все они были очень дружелюбными, и судя по ним, высоко ценящими заслуги Александра Исаевича Солженицына. В свою очередь Солженицын высоко ценил Шаламова и считал Колыму сталинским Освенцимом. Я попросил Шаламова дать мне почитать «Колымские рассказы», и с его разрешения Людмила Владимировна принесла мне напечатанный на машинке экземпляр. Мы с женой взахлёб зачитывались рассказами, подстёгиваемые опасениями, что они в какой-то степени грозят нам неприятностями, хотя и не Колымой, но всё же… Чтение художественной литературы типа «Колымских рассказов» или «Архипелага Гулаг» было делом не совсем безопасным, даже в 70-е годы.
Наши встречи с Людмилой Владимировной стали более частыми. Несмотря на то, что питание в больнице было хоть и не очень вкусным, но достаточно калорийным, Людмила Владимировна приносила ему дополнительную еду. К этому подключилась и моя жена, которая собирала кульки с какими-то дефицитными продуктами. У Шаламова после лагеря оставался страх перед голодом и многие продукты он прятал потом под матрац, под подушку или в других потаённых местах. Это была довольно сложная задача – вынимать полуиспорченные продукты, когда он терял бдительность, и сделать это так деликатно, чтобы его не обидеть.
Настроение Шаламова часто менялось от гордого, настойчивого очень резкого в обращении, нетерпимого прямо к противоположному – мягкому, испуганному, жалобному «будто просящему милостыню». Очень часто он говорил заговорщически: «У меня много денег, очень много денег». Он как будто пытался задобрить медперсонал, чувствуя себя виноватым. Иногда, приходя на обход, я находил его лежащим на клеёнке, без простыней, свернувшегося в комочек, с завязанным полотенцем вокруг шеи, засунутыми простынями и наволочками под матрац. В это время общение с ним было крайне затруднено, почти невозможно. Наверное, это было явное проявление странностей и переживаний бывшего зэка. При попытке его обследовать в эти моменты, он судорожно хватал меня за руки, ощупывал их и если не узнавал, отбрасывал. Его зрение катастрофически падало, и он практически не слышал. Пытаясь обратить внимание, он бывало настойчиво кричал: «Але, але, але!» В таком случае неоценимую услугу переводчика играла Людмила Владимировна. Она каким-то невообразимым методом практически разговаривала с ним, и он утихал и смирялся. Помню, в её отсутствие я не смог понять его, и он схватил на ощупь какой-то предмет и пытался бросить его в меня. Потом всегда, после эмоционального взрыва, от него независящего, чувствовал себя виновато. Он понимал свое тяжелое положение. В более просветленные моменты старался загладить свою вину, и однажды подарил мне два сборника своих стихов с подписью.
Работала у нас в отделении пожилая санитарка тётя Шура, пожилая женщина, доброжелательная к больным. Каким-то таинственным образом она усмиряла Варлама Тихоновича в моменты его возбуждения. Иногда он жалобно просил, чтобы я позвонил Галине. Потом я узнал, что это была его первая, бывшая, жена – Галина Игнатьевна Гудзь. Любовь Рафаиловна Жерардье каким-то неизвестным мне образом узнала телефон Галины, но получила враждебный и холодный отклик, чтобы ее больше не тревожили. Узнал я также, что его дочь Лена не хотела даже знать своего отца и отказалась от него.
Посещал его Юлиан Анатольевич Шрейдер, хороший знакомый Варлама Тихоновича, доктор философии и литератор, о котором я прежде упоминал. Мы разговаривали о Шаламове, которого он знал с 1966 года, и познакомила его с ним Надежда Яковлевна Мандельштам. Он первым рассказал мне о высоком художественном уровне «Колымских рассказов» и их месте в современной литературе. И прочитав их, я осознал, что у меня находится действительно талантливый и незаурядный человек, к сожалению, здоровье которого, к этому времени было уже основательно подорвано. Юлиан Анатольевич восклицал: «Это талант по большому счёту!» И то, как он это говорил, вызвало у меня доверие и уважение.
За время пребывания в нашем отделении, мне звонили какие-то люди, которые, не называя себя (и так было ясно, что они из органов), спрашивали, каково состояние Варлама Тихоновича Шаламова. Спрашивали моего мнения, не подлежит ли он переводу в психоневрологическое отделение. Я категорически и справедливо настаивал, что в настоящее время он неврологический больной, что у него непроизвольные судороги и он будет труден для психиатрического отделения. Были звонки от главного врача, которая также интересовалась по запросу из вышестоящих инстанций, как мне потом говорили. Но я настаивал, что он неврологический больной и должен быть в нашем отделении. Я понял, что этому человеку защитить себя самого трудно, и я должен, как врач и человек, сделать все возможное, чтобы справедливо отразить его состояние, и по возможности помочь ему, пусть даже в малом. Этот человек по настоящему много выстрадал в жизни. И его теперешняя болезнь усугубилась вследствие ужасного и тяжелого прошлого.
Варлам Тихонович страдал от прогрессирующего неврологического заболевания, сопровождающегося насильственными судорожными движениями в конечностях и лице, а так же снижением умственной деятельности (Хорея Гентингтона)[1]. Болезнь эта в большинстве случаев наследственная, начинается она незаметно, протекает хронически, медленно, но безостановочно прогрессируя. Такие больные долго сохраняют способность самостоятельно передвигаться, есть, одеваться и раздеваться и т.п., хотя все эти акты сопровождаются массой излишних непроизвольных движений. Такова была судьба Шаламова.
После более чем четырехмесячного пребывания в нашем отделении Шаламов был выписан домой с некоторым улучшением состояния здоровья. Я посетил его дома[2]. Дверь мне открыла Людмила Владимировна. Варлам Тихонович вышел ко мне навстречу, двигаясь тяжело, но самостоятельно. Он выглядел утихомиренным, необычайно спокойным и какое-то подобие улыбки было на его лице, что я редко видел, когда он лежал в отделении. Он подарил мне и надписал с большим трудом фотографии. Он вынес большой том своих рассказов, изданный недавно в Лондоне.
В 1981 году я и моя семья эмигрировали в США. С большим огорчением уже здесь узнал, что Варлам Тихонович Шаламов скончался в 1982 году. Мне искренне жаль, что я встретился и общался с этим человеком не в лучшее для него время. Настоящая и заслуженная слава пришла к нему позднее, уже после перестройки. Но я никогда не забуду его «Колымских рассказов» и их героев и ошеломляющее впечатление, которое они произвели на меня и мою супругу. Я понимаю, что эти несколько строк памяти немного добавят к его биографии, но я счастлив, если смог хоть чуть-чуть что-то облегчить в те тяжелые дни его болезни.
Опубликовано также: Шаламовский сборник. Вып. 4. Сост. и ред. В. В. Есипов, С.М. Соловьёв. М.: Литера, 2011. С. 61-77.
Примечания
- 1. В письмах и записных книжках В. Шаламов пишет лишь о том, что страдал от болезни Меньера. Справку о её последствиях, выданную доктором Л.Н. Карликом, он долгие годы носил при себе как удостоверение того, что его шаткая походка или падение, заплетающаяся речь – последствия болезни, а не алкогольного опьянения. В ней было указано: «Больной может ошибочно быть принят за пьяного. Заплетающаяся речь. Больной может внезапно упасть. В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному первую помощь». И действительно справка помогала. В письме Я.Д. Гродзенскому в 1970-м году Шаламов пишет: «Медицинская справка текста профессора Карлика в высшей степени улучшила мой проект — и уже применялась в объяснении с водителями троллейбусов — ибо те имеют те же задания, что и милиция, и служащие метро. Собственноручно профессор успокаивает, приводит меня в состояние глубокой благодарности».
В 1978-м году в 67-й больнице Шаламову был поставлен другой диагноз: болезнь Хорея-Гентинтона. Упоминаний этого диагноза в опубликованной на сегодняшний день переписке и записных книжках не встречается. М. Левин, по просьбе редакции http://shalamov.ru специально для этой публикации пояснил: «Шаламов страдал не от болезни Меньера, а имел очень серьёзное неврологическое (не психоневрологическое, а именно неврологическое) заболевание с тяжёлым повреждением мозга, с непроизвольными движениями во всех конечностях. При такой болезни речь человека дизартрична. Болезнь Меньера же лечится отоларингологами, с ней люди живут и работают». К сожалению, о последних годах жизни Шаламова известно очень мало. Уточнение обстоятельств его болезни и трагической гибели должно стать задачей дальнейших исследований - 2. Вероятно, это было в первой половине 1979-го года (Уточнение М. Левина).
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.