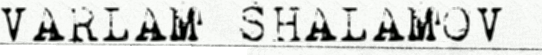
Варлам Шаламов об Осипе Мандельштаме: «Не допустить, чтобы было скрыто имя…»
В творчестве Шаламова образ и наследие Мандельштама занимает особое место. Мандельштаму Шаламов посвятил один из своих самых известных рассказов «Шерри-Бренди» из первого цикла «Колымских рассказов» [далее – «КР». – С.С.], посвященный смерти поэта в пересыльной тюрьме. Этот рассказ Шаламов читал на вечере памяти Мандельштама в МГУ в 1965 году, а также готовил выступление на несостоявшемся вечере в январе 1966 года. Важную роль в жизни Шаламова сыграло знакомство с Н.Я. Мандельштам, которой посвящены и стихи, и рассказы («Сентенция», «Воскрешение лиственницы»). Общение с ней и ее кружком на время поставило Шаламова в центр тогдашней неподцензурной литературной жизни, в том числе самиздатовской. Как известно, эта связь завершилась резким разрывом в 1968 году, обсуждение причин которого выходит за рамки этой статьи.
В отношении Шаламова к Мандельштаму можно выделить три аспекта, хотя выделение это, разумеется, условно. Во-первых, это борьба за восстановление памяти о великом поэте. Во-вторых, это внимание к Мандельштаму как поэту, к его поэтическому наследию. В-третьих, это общение с Н.Я Мандельштам, в котором, помимо прочего, все время присутствует образ О.Э. Мандельштама. В этой статье я лишь попытаюсь наметить некоторые реперные точки и обозначить некоторые проблемы, однако полноценное развитие этой темы еще впереди.
На сегодня тема «Шаламов и Мандельштам» получила отражение, пожалуй, только в нескольких работах: статье Павла Нерлера «Сила жизни и смерти. Варлам Шаламов и Мандельштамы (на полях переписки Н.Я. Мандельштам и В.Т. Шаламова)»[1], статье Евгении Абелюк «Реминисценции и их значение в художественном тексте»[2], а также в работах Л.Г. Юргенсон[3] и Ф. Апановича[4], анализировавших рассказ «Шерри-Бренди».
Е.С. Абелюк обращает внимание на связку реминисценций у Шаламова: «Шерри-Бренди» – стихотворение Мандельштама, отсылающее к пушкинскому «Пиру по время чумы», дает, в свою очередь, название рассказу о смерти поэта в лагере. Пушкин не в первый раз появляется в «КР» – достаточно вспомнить общеизвестное начало рассказа «На представку»: «Играли в карты у коногона Наумова». Но Шаламов не ограничивается реминисценциями.
Прежде всего в рассказе о Мандельштаме описывается смерть поэта («Смерть поэта» – именно под таким названием распространялся этот рассказ среди знакомых Шаламова и читался публично, в том числе – на первом вечере памяти Мандельштама в 1965 г.)[5]. Не просто смерть человека от голода в условиях пересыльного лагеря 1938 года, но – смерть поэта, который остается поэтом до конца. Половина короткого рассказа – это описание мучений, обстановки пересылки или ощущений умирающего человека. Но не меньшее место в рассказе занимают рассуждения поэта о своих и чужих стихах, творчестве, месте в поэзии, наконец, о принципах поэзии как таковой. В этом можно усмотреть противоречие с шаламовскими утверждениями о гибели разума в лагере, о сведении человека к животному состоянию (ср.: рассказ «Сентенция», кстати, посвященный именно Н.Я. Мандельштам). Но это только кажущееся противоречие – умирающий поэт находится на пересылке, где пока «жил дух свободы», потому что это был «мир в дороге»[6]: от тюрьмы к лагерю. Здесь мышление еще возможно – несмотря на приближающуюся смерть. Это – счастливая смерть, так как поэт не обречен на выживание вопреки своей человеческой сущности, как автор рассказа, изведавший все ужасы Колымы. Шаламов не раз повторял, что он не уверен в том, что выживание – благо…
Исследователями творчества Шаламова уже не раз отмечалась яркая особенность его творческого метода: стирание границы между фигурой автора, фигурой рассказчика и героем повествования[7]. В этом рассказе эта особенность проявилась как нельзя ярче. Мандельштам в «Шерри-бренди» думает о поэзии словами самого Шаламова, неоднократно затем повторенными им на страницах эссе, переписки, наконец, в статье «Звуковой повтор – поиск смысла», опубликованной в 1976 году в сборнике «Семиотика и информатика». Сам факт, что масса важных для Шаламова соображений о поэзии в сжатом виде вошли в этот рассказ, не может не обратить на себя внимания.
Сравним тексты.
|
Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека – тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он – это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. («Шерри-бренди» [Т.1, с. 103.]). |
«Рифма – поисковый инструмент, а не орудие благозвучия (Бальмонт), не мнемоническое средство (Маяковский). Роль рифмы гораздо значительней». («Таблица умножения для молодых поэтов», 1964 [Т.5, с.14]) «Творческий процесс есть процесс торможения, отбрасывания лишнего, а не поиск, не накопление. Накопление — в любом виде и форме произошло давно, гораздо раньше, чем поэт берется за перо. Для первой строфы используется весь личный опыт всех клеток тела поэта, нервов, мышц, напрягаются мускулы памяти. Весь опыт человечества здесь пытается вырваться и закрепиться на бумаге». («Звуковой повтор – поиск смысла»[8], 1976). |
|
Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь – вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом. («Шерри-бренди» [Т.1, с. 103.]). |
«Пейзажная лирика – попытка дать дереву и камню заговорить о себе и о человеке. И вместе с тем – пока пейзаж не говорит по-человечески, он не может называться пейзажем». («Таблица умножения для молодых поэтов», 1964 [Т.5, с.13]). «Я пытался перевести голос природы природствующей – ветра, камня, реки – для самих себя, а не для человека. Мне давно было ясно, что у камня свой язык – и не в тютчевском понимании этого вопроса, – что никакой пушкинской “равнодушной природы” нет, что природа в вечности Бога или против человека, или за человека – или сама за себя <…> Стихи – всеобщий язык, единственный знаменатель, на который делятся без остатка все явления мира. Любое явление природы может быть включено в борьбу людей». («Кое-что о моих стихах», 1969 [Т.5, с.111-112]). «Для поэта нет мертвой природы – минерал и сорванный цветок полны живой жизни. Это чувство есть способность найти в природе человеческое, найти то, что объединяет человека с внешним миром. Когда пишется стихотворение, то кажется, что не только поэт живет жизнью камня, но и камень живет жизнью поэта». («Пейзажная лирика», 1961 [Т.5, с.73]). |
|
«Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами». («Шерри-бренди» [Т.1, с. 104.]). |
«Второй главной формулой моих стихов считаю: “Стихи – это судьба”.
Даже если не было бы находок, нового взгляда на природу, мой поэтический дневник должен был дать ткань кровоточащую.
Без чистой крови нет стихотворений, нет стихотворений без судьбы, без малой трагедии». («Кое-что о моих стихах», 1969 [Т.5, с.111.]). |
«Жить стихами» – это слова самого Шаламова о себе, «жившем стихами» Пастернака, и о Павле Васильеве, расстрелянном поэте, которого «жить стихами» научил Клюев. Зачем в рассказе этот символ веры Шаламова-поэта, зачем его теоретические декларации, посвященные природе стиха?
Прежде чем предложить ответ на этот вопрос, приведу еще один знаковый пример. В черновиках рассказа есть стертая, но читаемая фраза, идущая после слов «Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве»:
«Прекрасная, выразительная <нрзб> рифма – “умирал – минерал”. Глагол и существительное, стихотворный ключ русской речи»[9].
У Мандельштама такой рифмы мне найти не удалось, но у самого Шаламова она встречается в двух стихотворениях: «Из дневника Ломоносова» (1954) и «Бирюза и жемчуг» (1959), написанных как раз в тот период, когда шла работа над рассказом «Шерри-бренди».
Конечно, эти совпадения, это приписывание Мандельштаму точки зрения Шаламова-поэта, как справедливо писала Л. Юргенсон, – ярчайший пример «двойничества», когда автор и герой практически сливаются: «Создание двойника – Мандельштама – позволяет Шаламову описать свою собственную смерть и в то же время воздвигнуть надгробный памятник поэту»[10]. Л. Юргенсон справедливо видит перекличку:
«Шаламов побывал на Колыме, приобрел знания, отчуждающие от людей. За год до Мандельштама он побывал на той же пересылке, но уже узнав опыт Колымы, как посланник мертвых. Этот этап описан в рассказе “Тифозный карантин”; Мандельштам в “Шерри-Бренди” встречается с Шаламовым из “Тифозного карантина”.
“Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать”. (“Шерри-Бренди”).
Этот человек и есть Шаламов, пришедший сюда из рассказа “Тифозный карантин” (где он носит фамилию Андреев), чтобы стать свидетелем собственной смерти»[11].
И это не единственный пример перекличек с другими рассказами колымских циклов. «Дактилоскопический рисунок» – «геологическая карта» судьбы Мандельштама, упоминается Шаламовым в схожих контекстах в нескольких рассказах, но самую важную роль этот образ играет в рассказе «Перчатка» из последнего цикла «КР», где речь идет о двух наборах отпечатков – снятой с рук автора врачами на Колыме пеллагрозной перчатке и той, что осталась на руке: «Дактилоскопический узор обеих перчаток один: это рисунок моего гена, гена жертвы и гена сопротивления» [Т.2, с.285]. Отпечатки Мандельштама остались на Колыме, но Шаламов имеет все основания претендовать на тот же дактилоскопический рисунок – рисунок поэта. В рассказе грань между героем, повествователем (который рационально невозможен – поэт умирает!), и автором стерта практически до неразличимости, едва ли не в большей степени, чем в любом другом рассказе Шаламова.
Шаламов тоже умирал от голода, был на той же пересылке, он писал, что находится «дальше от смерти, чем в 1938 году, когда мои пальцы были пальцами мертвеца» [Т.2, с.284]. Для понимания этих особенностей рассказа обратимся к тому, что сам Шаламов писал о нем в письмах и эссе «О прозе»:
«Рассказ “Шерри-бренди” не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе [выделено мной. – С.С.]. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора самое главное – это возможность высказаться – дать свободный мозг тому потоку. Сам автор – свидетель, любым словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор». (Из письма к И.П. Сиротинской [Т.6, с.486.])
«Шерри-бренди» – это выдумка, этого не было, но это могло быть – и – по гамбургскому счету – это было. Автор имеет право и как поэт, и как лагерник на документальное свидетельство, на художественный вымысел, который, по сути, вымыслом не является.
А вот фрагмент из переписки с Я.Д. Гродзенским, который потом дословно вошел в эссе «О прозе»:
«По поводу одного из “Колымских рассказов” у меня был разговор в редакции московского журнала. <…>
— Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама?
Я: В рассказе “Шерри-бренди” нарушения исторической правды меньше, чем в пушкинском “Борисе Годунове”. Описана та самая пересылка во Владивостоке, где умер Мандельштам, дано точное клиническое описание смерти человека от голода, от алиментарной дистрофии, где жизнь то возвращается, то уходит. Где смерть то приходит, то уходит. Мандельштам умер от голода. Какая вам нужна еще правда? Я был заключенным, как и Мандельштам. Я был на той самой пересылке (годом раньше), где умер Мандельштам. Я – поэт, как и Мандельштам. Я не один раз умирал от голода и этот род смерти знаю лучше, чем кто-либо другой. Я был свидетелем и “героем” 1937–38 годов на Колыме. Рассказ “Шерри-бренди” – мой долг, выполненный долг. Плохо ли, хорошо ли – это другой вопрос. Нравственное право на такой рассказ имею именно я. Вот о чем надо думать, когда идет речь о “канонизации”». («О прозе» [т.5, с. 150])
В случае с Мандельштамом двойничество как литературный прием становится еще нравственным долгом автора-поэта по отношению к умершему собрату. Конечно, это следует отнести ко всем тем мертвым, от имени которых и говорит повествователь в «КР», но в случае с Мандельштамом, подчеркну еще раз, случай особый.
Но использование приема двойничества при всей своей важности – это только часть объяснения особенностей рассказа «Шерри-бренди» и в целом отношения Шаламова к Мандельштаму.
Обратим внимание на еще одно замечание Шаламова из эссе «О прозе»:
«Рассказ написан сразу по возвращении с Колымы в 1954 году в Решетникове Калининской области, где я писал день и ночь, стараясь закрепить что-то самое важное, оставить свидетельство, крест поставить на могиле, не допустить, чтобы было скрыто имя, которое мне дорого всю жизнь, чтобы отметить ту смерть, которая не может быть прощена и забыта.
А когда я вернулся в Москву, я увидел, что стихи Мандельштама есть в каждом доме. Обошлось без меня. И если бы я это знал, я написал бы, может быть, по-другому, не так» [т.5, с. 150].
Загадочная фраза: «Не так»! – А как иначе был бы написан этот рассказ? Литературоведение, как и история, не знает сослагательного наклонения, однако, основываясь на знании творческого метода Шаламова, на его восприятии Мандельштама, можно попытаться сделать предположение. Возможно, о поэзии, о поэтической традиции в этом рассказе говорилось бы меньше, а о смерти – несколько больше, если бы Шаламов знал, что поэзия Мандельштама «доступна в каждом доме».
В эссе «Поход эпигонов» 60-х годов Шаламов пишет:
«Наше время отличается одной особенностью. Молодежь вовсе незнакома, по вине Сталина, с русской поэзией XX века. Ведь это не секрет, что Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Иннокентий Анненский не пользовались помощью типографии на своем пути в сердца читателей. <…> Русский читатель прошел мимо истории поэзии, мимо ее вершин» [Т.5, с.70].
В этом эссе Шаламов прямо называет Л. Мартынова эпигоном Цветаевой, причем чуждым поэзии как таковой:
«Это подражатель, использующий экспериментальные находки Цветаевой, за которыми стоит израненное сердце, живая человеческая судьба, кровавые раны души – для каких-то сомнительных острот, изложения банальнейших мыслей с ложной значительностью» [Т.5, с.70].
Шаламов констатирует прерванность традиции и необходимость ее восстановления. Традиции исторической и поэтической – вот что является главным во множестве упоминаний Мандельштама у Шаламова. Причем одно от другого Шаламов принципиально не отделяет.
Именно поэтому в рассказе появляются имена поэтов, о стихах которых думает умирающий Мандельштам (и мог думать умиравший автор). Тютчев, Пушкин («мышья беготня», и неявная отсылка через название рассказа[12]), Блок, Есенин, Маяковский, Гоголь[13]… Таким образом Шаламов включает Мандельштама в известную читателю традицию, подчеркивает свой взгляд на Мандельштама как представителя «книжного стиха»; «сквозь книжность так ярко проступает судьба, так ярко чувствуется боль, что даже сам уход в книжность кажется стремлением защититься от этой боли» [Т.5, с.86-87]. И одновременно Шаламов включает в традицию и свои поэтические находки. Возможно, читатель сочтёт это натяжкой, но в рассказе можно даже усмотреть следы мандельштамовского манифеста акмеизма – «Утро акмеизма». Сравните:
| «Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь – вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом [Выделено мной. – С.С.]». («Шерри-бренди» [Т.1, с. 103.]) | «Эта реальность в поэзии – слово как таковое. <...> Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов»[14]. |
В любом случае, стихи наделяются силой библейского слова, но вне религиозного контекста, как и поэтическое бессмертие, в котором уверен умирающий поэт: «Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами» [Т.1, с. 103.].
Поэт для Шаламова – обязательно еще и нравственный ориентир. Он согласен с тем, что «Поэт должен быть больше, чем поэт» [Т.5, с.262.]. Казалось бы, Мандельштам не подходит под эту формулу. Но Шаламов настаивает: «Есть мнение, что, близко соприкасаясь с живой жизнью, с бытом, Осип Мандельштам вел с ним борьбу с помощью книжного щита, щита, а не меча. Это не книжный щит, а щит культуры, да и не щит, а меч» [Т.5, с. 209.]. Если учесть это мнение, становится понятно, почему «Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму» [Т.4, с.553.]. Мученическая гибель Мандельштама подчеркивает вывод Шаламова, согласно которому «стихи – это судьба, не ремесло». Стихи, культура именно поэтому и могут быть орудием общественной борьбы – благодаря их нравственному содержанию.
Судьба Мандельштама для Шаламова не менее важна, чем его стихи: «И у Пастернака, и у Цветаевой, и у Ахматовой были уступки, отступления под нажимом грубой силы. Были принесенные напрасные жертвы, только унижавшие этих поэтов. <…> У Мандельштама не было компромисса. <…> Вот эта-то бескомпромиссность, непримиримость, нетерпимость – во всем – от художественных принципов, поэтической практики до личного поведения – и есть тот мотив, который пронизывает каждую строчку и каждый день жизни Мандельштама»[15].
Мотив единства судьбы личной и поэтической Шаламов видит и в акмеизме как таковом: «Не трудно угадать, что было бы c символистами, если бы тем пришлось подвергнуться таким же испытаниям, как Мандельштаму и Ахматовой. Символисты поголовно ушли бы в религию, в мистицизм, в монастыри какие-нибудь» [Т.5, с.210]. Для Шаламова важен и антимистицизм акмеизма, и то, что в поэзии – в отличие от Пастернака – акмеистам не пришлось ни от чего отказываться.
Этот же мотив Шаламов видит и в прозе Н.Я. Мандельштам. Описание этих отношений выходит за рамки этой статьи, но обойти их полностью невозможно. Переписка с Н.Я. Мандельштам показывает, насколько важным и насыщенным было это общение. Интересный факт, на который указала Ф. Тун-Хоэнштайн[16]: в переписке Надежда Яковлевна обращается к Шаламову «Варлаам». Известно, что своё имя Шаламов недолюбливал, во всех документах имя писал с одной буквой «а», порывая таким образом с волей отца, назвавшего сына в честь святого Варлаама Хутынского. Однако Н.Я. Мандельштам эту вольность со своими именем Шаламов, как видно, позволял. С другой стороны, замечания Шаламова были внесены Н.Я. Мандельштам в свою книгу, которую он читал в рукописи[17]. Именно во время общения с «кружком Н.Я.» Шаламов пишет несколько текстов, направленных на публичное распространение, передает свои рассказы для публикации за границу, пытается участвовать в общественном движении – но затем, как известно, жестоко разочаруется в этой деятельности. Очевидно, однако, что это общение позволило ему приблизиться к поэту, которого он так высоко ценил.
Шаламов писал Н.Я. Мандельштам: «Утрачена связь времен, связь культур – преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити». Для этого, как считал Шаламов, нужен личный контакт, личная связь с людьми-носителями традиции, особенно теми, кто олицетворял для него человеческий идеал:
Должны же быть такие люди,
Кому мы верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг. [Т.3, с.383.]
Такой связью с Осипом Мандельштамом стала для Шаламова Надежда Яковлевна.
Мандельштам для Шаламова – одна из поэтических вершин XX века, хотя ему, безусловно, ближе поэзия Б.Л. Пастернака. Суждения Мандельштама о поэзии для Шаламова авторитетны, а в его исследовательских работах о русской поэтической рифме (до сих пор практически неизвестных даже специалистам) не раз упоминаются поэтические открытия Мандельштама.
Однако прозу Мандельштама автор «КР» не ценил. В самом рассказе «Шерри-бренди» автор выходит из тени героя, прямо называя прозу Мандельштама – «плохой». И, действительно, ссылок на прозу Мандельштама у Шаламова нет, но их немало есть на стихотворные, поэтические открытия Мандельштама. Даже название прозаического сборника «Шум времени» Шаламов использует для иллюстрации деятельности поэта. Казалось бы, автор «новой прозы», не раз констатировавшего смерть традиционного прозаического жанра должен был привлечь тезис Мандельштама о «конце романа», но и тут максимум, что использует Шаламов – это только сам тезис, никак не касаясь его содержания – при том, что наследие Мандельштама Шаламов знал очень хорошо. В прозе поэты оказались друг другу чужды.
Возможно, проза Мандельштама «плохая» потому, что она противоречила принципам «новой прозы» Шаламова, была слишком украшенной, слишком детализированной, далекой от того идеала документальной строгости, который декларировался и соблюдался Шаламовым. В эссе «Поэт и проза» он заявляет: «Проза Цветаевой показывает, чего стоят поэты, когда они берутся за прозаическое перо», говорит о емкости языка Пастернака в «Докторе Живаго», но о Мандельштаме в этом контексте речь не идет[Т.5, с.76-78].
* * *
В январе 1966 года, через несколько месяцев после выступления Шаламова на первом вечере памяти Мандельштама, где он читал рассказ «Шерри-бренди», Шаламов готовился к выступлению на новом мандельштамовском вечере. Он написал яркую речь, которая в его наследии должна быть поставлена рядом с отправленным в самиздат «Письмом старому другу», посвященном делу Синявского-Даниэля. Эту речь, страстно требующую издать Мандельштама, ему не довелось произнести – запланированные мандельштамовские вечера в 1966 году не состоялись[18], но оставшийся в рукописи призыв красноречив:
«Один молодой историк сказал, что легче написать по документам историю царствования Александра 3, чем историю нашего времени. Документов просто нет, а те, что есть – заведомо фальсифицированы.
Надо создать новые документы и на основании их писать истинную историю литературы, истинную историю русского общества.
Напишите эти работы. Поверьте, что характеры современников – с их трагической судьбой, с их жизненной силой, с их нравственной ответственностью, с их величественной значительностью крупнее, чем прославленные характеры Возрождения, люди Ренессанса, о которых мы знаем со школьной скамьи, по учебникам. <...>
Исследование судьбы современников в тысячу раз более благодарная, более важная (всесторонне важная) задача, чем исследование пушкинской эпохи, как бы изящно не было это сделано»[19].
Первая задача Шаламова и в рассказе «Шерри-бренди», и в последующих выступлениях, связанных с именем Мандельштама, заключается в том, чтобы вернуть историческую память, вернуть молодой интеллигенции забытые или полуизвестные имена: «Отрешение Мандельштама от русского читателя есть преступление против человечества, против культуры, против поэзии»[20]. Вторая, не менее важная, задача – пробудить интерес к истории и литературе современности, к изучению наследия Мандельштама, причем сам Шаламов и в этой речи, и в других своих заметках, эссе, переписке набрасывает конкретные направления этого изучения.
Есть один аспект, в котором сближаются судьбы Мандельштама и Шаламова, и речь не только о мученичестве в сталинских лагерях. Друг Мандельштама Борис Кузин пишет: «Чаще всего просто у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта. – Обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию»[21]. Он отмечает, что Мандельштам даже такие тяжелые темы мог смягчить шуткой. У Шаламова после шестнадцати лет Колымы шутить об этом сил не было.
Шаламов, говоря о судьбах лишенных станка Гутенберга современников, не мог не иметь в виду и себя.
Когда Шаламов яростно пишет о неизданности Мандельштама, он пишет и о себе. Он не только умирал на Колыме, не только был на Владивостокской пересылке за год до Мандельштама, – его тоже душили невозможностью иметь свою аудиторию. Эта мысль звучит в «Письме старому другу», посвященному делу «Синявского-Даниэля»:
«Всякий писатель хочет печататься. Неужели суд не может понять, что возможность напечататься нужна писателю как воздух.
Сколько умерло тех, кому не дали печататься? Где “Доктор Живаго” Пастернака? Где Платонов? Где Булгаков? У Булгакова опубликована половина, у Платонова – четверть всего написанного. А ведь это лучшие писатели России. Обычно, достаточно было умереть, чтобы кое-что напечатали, но вот Мандельштам лишён и этой судьбы»[22].
Этой судьбы долгое время был лишен и Шаламов, и, как и Мандельштам, прекрасно понимая свою гениальность (Мандельштам понимал, что он – «первый поэт России», Шаламов считал, что «Колымские рассказы» совершенны), понимал также, что он остается оторванным от читателя.
Общая трагедия – еще один факт, сближающий поэта Мандельштама и поэта Шаламова.
Notes
- 1. Osteuropa. 2007. 57. Jg., Nr. 6, Juni. S. 229-237; см. по-русски: Шаламовский сборник, Вып. 4. М., 2011. С. 173-182.
- 2. Лингвистика для всех. Зимняя лингвистическая школа. М., 2004. С. 9-16.
- 3. Семиотика страха. Сборник статей. Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М., 2005. С. 329-336.
- 4. IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18 – 19 июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. М., 1997. С. 40-52.
- 5. Автор благодарен Ю.Л. Фредину за указание на этот факт.
- 6. Черная ирония Шаламова – использовать в тексте рассказа (прямо в кавычках!) известную цитату из «Авторской исповеди» Гоголя (Гоголь Н.В. <Авторская исповедь> / Подгот. к печати Л. М. Лотман // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — [М.; Л.], 1937 – 1952. Т. 8. Статьи. 1952. С. 455.).
- 7. Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей. Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М., 2005. С. 329-336; Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции / Сб. статей. Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М., 2009. С.178-204.
- 8. Семиотика и информатика. Вып. 7. М. 1976. С. 128.
- 9. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед.хр. 4. Л. 49.
- 10. Юргенсон Л.Г. Указ. соч. С. 334.
- 11. Там же. С. 334-335.
- 12. См. Абелюк Е.С. Реминисценции и их значение в художественном тексте (на материале произведений О. Мандельштама и В. Шаламова) // Лингвистика для всех. Зимняя лингвистическая школа. М., 2004. С. 9-16.
- 13. См. примечание 6.
- 14. Мандельштам О.Э. ПСС. Т.2. С. 23.
- 15. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 12.
- 16. Франциска Тун-Хоэнштайн – литературовед, издатель и редактор собрания сочинений В.Т. Шаламова, выходяшего на немецком языке. Автор статьи очень благодарен Ф. Тун-Хоэнштайн за то, что она поделилась этим интересным фактом.
- 17. В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам есть несколько прямых ссылок на Шаламова, но помимо них по его совету из текста было убрано упоминание об «“унизительной”» должности ассенизатора, которую на пересылке занимал Нарбут». Шаламов свидетельствовал, что «это сказочно выгодная должность». См. о В.И. Нарбуте письмо Н.И. Столяровой [Т.6, с.381.].
- 18. Автор благодарен Ю.Л. Фредину за это уточнение.
- 19. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 7.
- 20. Там же
- 21. Кузин Б. Об О.Э. Мандельштаме // Кузин Б. С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. Я. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб., 1999.
- 22. Цена метафоры или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 524.
The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.