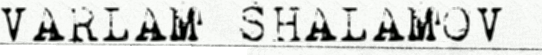
«Колымские рассказы» — зона двуязычия
13 сентября 1953 года Варлам Шаламов, бывший заключенный, а ныне вольнонаемный сотрудник Дальстроя, увольняется и уезжает на материк. Он уже несколько лет снова пишет стихи, успел отправить подборку Пастернаку и получить ответ.
Пастернака Шаламов тогда считал носителем того языка, которым можно рассказывать важные, последние вещи, наконец осмыслить, описать тот мир, в котором они, как они тогда считали — оба — находились. Пастернак был для Шаламова со-временником. То есть человеком, живущим в том же временном потоке — очень важное обстоятельство в обществе, где к началу пятидесятых историческое время окончательно стало дискретным. Цензура; региональные различия; разница в опыте; массовое образование и перемены в нем; Вторая мировая, перевесившая вывески, переставившая ударения и сделавшая двадцатые и тридцатые из времени послереволюционного временем довоенным, а дореволюционные времена — доисторическими, — страна незримо рассоединилась слоями по новому критерию: какое прошлое человек помнит — и на каком языке он его помнит.
У Шаламова и Пастернака совпадений было существенно меньше, чем они думали, но именно собеседников и современников они будут искать друг в друге[1] и именно Пастернаку в 1956 году Шаламов подарит множество подробностей лагерного быта, в надежде, что те войдут в «Доктора Живаго» — попытку создать новый роман, одновременно охватывающий советское и внесоветское историческое пространство.
Впрочем, с каким бы пиететом не относился тогда Шаламов к Пастернаку, чем бы ни был готов с ним поделиться, полагаться на то, что нужное ему будет написано Пастернаком, Шаламов не станет.
В 1954 году, едва обосновавшись в Калининской области, на своем 101 километре, он начинает писать то, что потом станет «Колымскими рассказами» [далее «КР»].
1954 год. Времена литературных манифестов и теоретического самоопределения давно прошли — или еще не наступили. Шаламов, как обычно, шел вне расписания. То, что лихорадочно писалось на калининских торфоразработках, он называл новой прозой. Иногда — прозой будущего.
По обстоятельствам пятидесятых оба термина покушались на основы, ибо после провозглашения соцреализма никаких ниш для нового искусства официальная система не предусматривала. Будущее же полностью принадлежало советской власти и объектом частных посягательств быть не могло никак.
К тому же, оба термина восходили к языку двадцатых — и уже в силу этого, опять-таки были вызовом вневременному соцреалистическому «неоклассицизму» и идеям, его породившим.
Вызов этот, как мы полагаем, был вполне осознанным. Шаламов возражал насаждаемой вечности с точки зрения конкретного времени, «реализму» советской религии с точки зрения «номинализма», идеалу с точки зрения материала, идеологии с точки зрения литературной традиции. Не возведенной в абсолют и зафиксированной кодексом, а живой — продолжающейся.
Здесь хотелось бы оговорить, что меру внутренней, личной — и принципиальной — соотнесенности Шаламова с культурным временем, сложно переоценить даже в мелочах.
Например, когда Шаламов пишет краткую заметку об истории гибели нескольких своих архивов: «Большие пожары», то название он заимствует у выходившего в «Огоньке» в конце двадцатых «романа 25 авторов» «Большие пожары» — очередного литературного эксперимента, авантюрного буриме, где причиной серии пожаров в провинциальном городе Златогорске оказывались страшные бабочки, чьи крылья враги и интервенты злодейски покрыли специальной воспламеняющейся желтой пыльцой. Роман — кажется, вопреки намерениям авторов — был наполнен предчувствием не светлого будущего и не мировой революции, а какой-то невнятной, но несомненной огромной беды и заканчивался фразой ««Большие пожары» позади, великие пожары — впереди!»
Великие пожары действительно ожидали прямо по курсу, а косвенным следствием их были пожары маленькие, индивидуальные — около сотни рукописей, сожженных перепуганной женой после ареста Шаламова. Архив отца — пропавший. Тетради стихов, уничтоженные уже самим Шаламовым перед отъездом с Колымы — человек, к которому он обратился с просьбой взять стихи на хранение, отказал ему с криком «У меня дочь!» — аргумент и в 1953 году более чем убедительный.
Отсылки к огоньковскому роману 1927 года и его нежданной предсказательной силе в 60-е, когда писалась заметка «Большие пожары», оценил бы мало кто — даже из выживших авторов романа-буриме. Для Шаламова она была очевидной и неизбежной. И он пользовался ею, чтобы высказаться, заращивая пробел, провал во времени.
Точно так же, поперек очередной лакуны, ответит потом Шаламов на как бы лестную попытку создать ему подобающую — в рамках дискретного времени — литературную родословную.
«Оттен: Вы — прямой наследник всей русской литературы — Толстого, Достоевского, Чехова.
Я: Я — прямой наследник русского модернизма — Андрея Белого и Ремизова»[5, 322].
Шаламов здесь восстанавливает не только свою генеалогию — но и связь времен.
Мысль о том, что любое важное явление требует собственных — проистекающих из его природы — риторики и поэтики, для двадцатых годов естественная, также казалась Шаламову самоочевидной.
«Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы»[5, 153].
Неочевидность этих выводов для культуры пятидесятых — и шестидесятых, и семидесятых — он осознавал очень отчетливо, чему свидетельством постоянные попытки объяснить значимым людям (если не со-временникам, то со-беседникам), что он, собственно, пытается делать в литературе и что в ней, на его взгляд, вообще стоило бы делать: создавать прозу, которую читатель — снова — мог бы переживать как нечто подлинное.
Как ни странно, в своем определении этой подлинности за рамки собственно марксистской теории Шаламов не выходил — ни в теории, ни в литературной практике. Бытие в «Колымских рассказах» самым навязчивым образом определяло сознание. Поэтика срасталась с физиологией.
Если рассказ «Сгущенное молоко» (1956) начинался словами: «От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств»[1, 108], — то эта мера давнего голода последовательно диктовала в дальнейшем все движение сюжета. Сознание человека голодающего занято в первую очередь — едой. Даже галактика будет — в дословном переводе — представляться ему во сне рекой вожделенного сгущенного молока.
Работа мозга требует калорий, которых истощенному организму негде взять. Поэтому все, что сможет сделать рассказчик, услышав, что его давний знакомый по тюрьме, оказавшийся в лагере на особом положении, предлагает ему побег: «Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи… Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта…»[1; 110] — до предела напрячь почти атрофировавшуюся способность к анализу и осознать: этого не может быть, это провокация. А осознав, провернуть нехитрую операцию: согласиться для вида, получить две банки вожделенного сгущенного молока — якобы подкормиться перед походом — съесть их на месте. И отказаться идти. Все. Маленькая выгода себе. Слабая месть бывшему товарищу, покупающему привилегии чужими жизнями.
Предупредить прочих жертв обмана — более наивных или более истощенных, а потому еще меньше рассказчика способных к критическому мышлению — он не может. Человек, у которого не осталось рассудка, силы воли, просто личности, чтобы после работы пойти в барак отдохнуть, а не стоять у дверей продуктового, не смотреть на недоступные сладко пахнущие буханки — способен ли он вести расследование, входить в доверие к людям, избегать неизбежного внимания оперчасти? Нет. Шестаков увел в побег пятерых. Двое погибли. Трое получили новый срок.
Рассказ завершается словами: «Со мной он [Шестаков] не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов…»[1; 112]
Годы спустя, ряд литературоведов будет говорить о неклассическом катарсисе (и анти-катарсисе)[2] у Шаламова. Нам, однако, представляется, что катарсис — равно как и анти-катарсис — внутри «КР» возможны только при температуре не ниже минус десяти и регулярном двухразовом питании. В противном случае, создавать из тяжести недоброй прекрасное — или еще большую тяжесть — будет некому.
Большая часть рассказов «КР» не описывается аристотелевой поэтикой — и не противопоставлена ей. Они — вполне сознательно — расположены вне ее зоны действия.
«Ступницкий сыт, он десятник — вот его и интересуют такие вещи, как война»[1, 551]. Читатель сыт — вот его и интересуют такие вещи, как катарсис.
Социальная обусловленность мировосприятия — внутри текста — и поэтики — вовне его — как мы уже говорили, вполне укладывалась в рамки марксистской философии.
Расхождения Шаламова с литературной линией партии лежали в иной области, ибо социалистический реализм описывал не существующее, а должное к существованию. То, чему следует быть.
Тогда как «КР» описывали… а, собственно, что?
* * *
Мы уже отмечали, что Колыма не была первым лагерным опытом Шаламова. Он был арестован в феврале 1929, приговорен к трем годам лагерей как социально-опасный элемент, направлен в Вишерское отделение Соловецких Лагерей Особого Назначения — и освобожден в 1931 по «разгрузке». На Вишере он видел много — и сделал окончательные выводы, как о природе советской пенитенциарной системы, так и о природе породившего ее социального строя.
Это если говорить о политике, но на поэтику шаламовской прозы Вишера тогда влияния не оказала. Новая проза Шаламову потребовалась именно для Колымы. Вернее — для Колымы, какой она стала поздней осенью 1937.
Что произошло, когда по рассказу «Как это началось?» «изменился ветер и все стало слишком страшным»?
В ноябре 1937 арестован был некоронованный король Дальстроя Эдуард Берзин. В вину ему ставили многое — но для нас важно, что вредительской была признана его политика обращения с лагерным контингентом. Политика эта рассматривала заключенных как инструмент для добычи золота и создания инфраструктуры, способствующей добыче золота и освоению края, а потому заключенный в норме должен был быть более или менее сыт, одет по погоде и надлежащим образом мотивирован — едой, деньгами и возможностью получить свободу. Разбазариванию же ценный придаток к кайлу и тачке, а также к куда более сложным и полезным для государства механизмам ни в коем разе не подлежал.
В перспективе Берзин мечтал о переходе к некоему аналогу феодализма и превращении лагерей в колонии, населенные лично свободными, но привязанными к Дальстрою работниками.
Деятельность его преемника Павлова в этой терминологии определялась скорее как пожоговое рабовладение.
Новая власть отменила все «поблажки», вернула на место конвой; жестко привязала пищевое довольствие к проценту выполняемой нормы; «отвязала» рабочий день от светового — на самых тяжелых работах дневная смена 11 часов, ночная 10, летом, зимой ли; ликвидировала обеденный перерыв, разрешила задерживать бригады на работе до 16 часов, увеличила кубатуру тачек до 0.1 кбм и направила возможный максимум рабочей силы на горные работы — вне зависимости от того, нуждались там в этой силе или нет, фактически покончив с организацией труда и быта (в той мере, в которой она существовала до того)[3].
В результате этой, выражаясь языком двадцатых, «штурмовщины» по неполным данным от 10 до 12 тысяч заключенных умерло от разнообразных форм и последствий истощения, обморожения и повальной антисанитарии.
Кроме того, в Севвостлаге работали тройки и комиссия по борьбе с саботажем, так что только с осени 1937 по май 1938 было расстреляно около 7 тысяч человек. См., например, работы А. Г. Козлова и исследование документальности «новой прозы» А. Б. Рогинского[4].
План золотодобычи, естественно, сорвали на два года вперед. Вопль производственников был со временем услышан и эффективность менеджмента несколько снизили. Тем не менее, волны сверхсмертности накрывали Колыму еще дважды — в 1942−1943 и в 1947. К проценту смертности времен первых лет (а ведь это была по определению высокая смертность освоения) Севвостлаг вернулся лишь в пятидесятые[5].
Этот исторический экскурс, как нам кажется, позволяет понять, чему именно стал свидетелем Варлам Шаламов. Не некоему безмерному, но осмысленному и целенаправленному злодейству. Не «окончательному решению» того или иного вопроса. Не организованному политическому убийству — хотя элемент такого убийства в происходящем был, «троцкистов» вытесняли из числа живых вполне намеренно, пусть и достаточно бессистемно. Он стал свидетелем безграмотной, бессмысленной и беспощадной оптимизации производства в условиях вечной мерзлоты. И последствий ее, умноженных на поголовное растление всех, кто — в любом качестве — угодил в воронку или хотя бы соприкоснулся с ней.
Никаких печей. Одиннадцатичасовый рабочий день, голод, страх, отсутствие тепла, побои, увеличенная тачка, антисанитария, системная жестокая некомпетентность. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать ошеломляющий разлив зла, чтобы «все умерли» — и никто из живых не вернулся.
Главное свойство лагеря «КР» — он не уникален по существу своему. И не ограничен пространством Колымы. Он существует везде, где встречаются эти простые условия — или их аналоги. Видимо, он существовал всегда.
Шаламову был нужен принципиально новый язык, ибо он собирался говорить об — как оказалось — очень старых вещах. О человеческой природе и ее этических и физиологических границах. О том, что происходит, когда человека выталкивают за эти границы.
* * *
Но чем же не подходил ему для этого язык старый, в тот момент — востребованный? Многие писатели — от Солженицына до Антоненко-Давидовича, столкнувшись с лагерной реальностью и необходимостью ее осмысления, сделали — так или иначе — шаг назад. К традициям XIX века — к времени до разрыва. Кто к Толстому и Достоевскому — а кто и к адмиралу Шишкову.
Естественно, при этом все, расположенное за точкой отката, например: революция, все ассоциирующееся с ней, ее предполагаемые культурные предшественники и ее литературные последствия, изымалось из обращения как очередное «ненастоящее», недолжное к существованию явление. Породив, соответственно, очередную лакуну, очередной временной разрыв.
Для Шаламова этот путь был закрыт. Не только потому, что с его точки зрения, русская гуманистическая литература вырастила поколение, создавшее лагеря. Не только потому, что она культивировала представление о человеке, принципиально пренебрегавшее калориями в пользу духа. Не только потому, что при помощи этой оптики лагерь вообще нельзя было увидеть — ибо в рамках классической традиции он мог существовать только как аберрация, локально-историческая катастрофа, "пузырь земли" — а не как постоянно присутствующее явление, слой Хевисайда, место, куда человек — или общество — могут попасть из любой точки при помощи очень простых средств. Закрыт он был для Шаламова и по причинам сугубо литературным — и литературоведческим.
В письме Юлию Шрейдеру в марте 1968 он пишет:
«Во вторую половину XIX века в русской литературе укрепляется антипушкинский нравоучительный описательный роман, который умер на наших с Вами глазах. <…> Однако пока не будет осужден самый принцип описательности, нравоучения — литературных побед нет»[6; 538].
Михаил Михеев в работе 2011 года «О новой прозе Варлама Шаламова» изумляется «Он парадоксальным образом объединяет две противоположности в нечто единое. То есть приравнивает нравоучительность к описательности. Это выглядит довольно странно, но для Шаламова, по-видимому, это именно так!»[6]
Да, так. Более того, для Шаламова эти понятия существуют только в связке. «Новая проза — само событие, бой, а не его описание» [5; 157; курсив мой]. Вот то, к чему стремится Шаламов. Непосредственное взаимодействие читателя и события, читателя и языка.
Описательность же подразумевает опосредованность, наличие фильтра, взгляд извне. Некую точку истины, в которой располагается всевидящий глаз автора. Внутри описательной конструкции истина заведомо существует — и заведомо же является постижимой. Соответственно, такая конструкция будет учить — даже если не ставит себе этой задачи.
По мнению Шаламова, в основе этой описательно-нравоучительной модели лежит в первую очередь страх. Страх перед внеположным и — в огромной степени — страх остаться непонятым.
«Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. <…> По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на сторону материала. Изменятся оценки, сместятся масштабы. Писатель будет измерять жизнь новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утрачена связь между писателем и читателем»[5, 151].
Классическая гуманистическая литература — мы говорили об этом в статье «Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым»[7] — с неизбежностью будет пытаться вписать любое новое явление — даже лагерь — в рамки уже существующего. Перевести его на язык аудитории — и тем самым приравнять к прочим явлениям, описываемым этим языком.
Таким образом, «старая» проза — по Шаламову — принципиально не годится ни для описания лагеря, ни для решения литературных задач вообще. Ибо не способна и не желает работать с миром вне уже освоенного. Этим языком нельзя сказать и подумать то, чего пока не видят, о чем пока не говорят.
Выход с точки зрения Шаламова — «Писатель должен уступить место документу и сам быть документом»[6, 538]. Не описателем. Даже не свидетелем. Свидетельством. Вещью. Частью повествования.
В данном конкретном случае, повествования о том полупромерзшем болоте, на котором стоит любой индивид и любое общество — и существование которого больше столетия белой истерической слепотой игнорировала российская гуманистическая культура.
Как этого достичь?
* * *
«…Уменье красть — это главная северная добродетель во всех ее видах…»[1; 62]
«Две недели, срок очень далекий, тысячелетний…»[1; 335]
«Труд и смерть — это синонимы…»[1; 455]
Насколько само слово «лагерь» оторвалось от словарного: «Стоянка войск, по большей части временная, под открытым небом, в палатках» (Толковый словарь русского языка, 1938), настолько смещены и значения всех слов, описывающих лагерь «КР».
Сдвиг может быть обозначен прямо: «Конец работы — это вовсе не конец работы…»[1; 119], может возникать по ходу движения рассказа или цикла — так, слово «дождь» начав с конвенционного значения, постепенно проявляется в «КР» как эквивалент слова «смерть» и автоматически делается частью длинного ряда, включающего такие явления как «мороз», «золото», «полковник Гаранин» — изменяя все звенья цепочки. Но и каждое из новых значений будет, в свою очередь, сдвинуто и оспорено.
Эти повсеместные словарные смещения воспроизводятся на уровне фабулы, происшествия. Большая пайка — убивает. Невыполнение нормы — убивает. Водворение в карцер, новый срок ни за что — дают временную защиту. Две банки сгущенки — такая ценность, что ради них можно рискнуть жизнью. Ведь даже мнимое, взятое назад согласие на побег все равно могло стать предметом доноса. Удобная тачка — удобная для сидения — губит. Из нее трудно встать. Не встал вовремя — расстрел. Люди разлагаются заживо, мертвецы — нетленны.
Появление узнаваемой цитаты — территории смыслового комфорта — в реальности «КР» сигнал тревоги, знак будущей, настоящей или бывшей беды, а скорее всего — первого, второго и третьего. Так в «Сгущенном молоке» повествователь окончательно осознает, что перед ним — провокатор и убийца, торгующий чужой кровью, когда Шестаков цитирует ему Долорес Ибарурри — имени которой, рассказчик, впрочем не может вспомнить, потому что «Все книжное было забыто»[1: 110].
Появление узнаваемого сюжета — сколь угодно культурно прочного — знак, что сейчас от сюжета не останется камня на камне, даже если в первоисточнике он был трагическим — история декабристов станет лишь поводом прикинуть, насколько выросла с тех пор норма выработки (в 266 раз).
И это в лучшем случае. В худшем — до сюжета раньше рассказчика доберутся блатные. И, например, воспользуются историей Сирано, чтобы персонаж, считающий, что пишет жалобные письма для тезки-уголовника, сам того не зная, подтолкнул к самоубийству свою жену. Или накормят заключенного-священника, только что служившего для себя и для леса литургию, мясом знакомой ему собаки.
А может быть, сюжет вовсе не состоится ни в каком виде, потому что вмешается начальство и посреди нарратива история вдруг останется без действующих лиц. («Геологи исчезли в одну из ночей».) Или — как в «Заклинателе змей» — без рассказчика.
Кстати, уцелел ли автор «КР», читателю неизвестно тоже — рассказ «Припадок», отождествляющий воспоминания о лагере с приступом меньеровой болезни, ставит под сомнение и это — обычно достаточно твердо известное в рамках литературного текста — обстоятельство.
Таким образом, на каждом уровне — от лексики, до схемы «адресант-сообщение-адресат» — распадается и рассоединяется все. Распад воспроизводится всеми иерархическими элементами «КР», а единого организующего ракурса — не существует.
При этом, объем значений, упакованный в пределы каждой фразы — чрезвычайно велик. При этом, он сталкивается и сопрягается с другими такими же объемами — в пределах цикла, порождая новые, нежданные, но почти всегда так или иначе разрушительные трактовки.
То же «Сгущенное молоко», будучи помещено в контекст первого цикла «КР» — в контекст снов о еде, о летающих буханках хлеба, в контекст никогда не сбывающейся мечты о сладком, о питании для мозга, лагерных слухов и лагерных искажений сознания, резко теряет в достоверности. Может быть и не было никакого Шестакова с его шахматными носками. Никакого предложения. Никакого обмана. И уж точно никакого молока.
Да если вспомнить: «Дайте ложку,− сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизанных ложек потянулись над столом»[1; 111]. И это при том, что ложек в «КР» обычно не отыщешь как института и сам Шаламов писал Солженицыну об «Одном дне Ивана Денисовича»: «В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент»[6; 278], и еще более экспрессивно: «Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время»[6; 284].
Молоко у провокатора, ложки у работяг — не привиделся ли рассказчику его хитроумный маневр, его двухбаночная удача — как приснилась молочная река в небе? Чему тут может верить читатель? Разве что голоду, тому голоду, который мог породить такую мечту.
При этом, все единицы смысла вместе и каждый по отдельности как харибда засасывают и перемалывают любой неосторожно случившийся поблизости объем мировой культуры.
«Земля под нами [рассказчиком и Шестаковым] тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы»[1; 109]. — птицы эти, вероятно, те, маленькие серые, что водят и носят мертвых через реку в обе стороны (не зря же Шестаков обещает увести беглецов на «Черные Ключи»), просто в колымском варианте, в отличие от греческого, они способны сделать это несимволически — и только в одном направлении.
Впрочем, если под персонажами трясется земля — то не потому, что она более не в силах все это носить, а потому, что готовят грунт для ночной смены.
Впрочем, читатель может решить иначе.
Невозможность — в условиях распада — выделить один правильный способ прочтения или хотя бы группу таких способов вынуждает читателя работать со всем возможным, представимым для него веером вариантов.
Значения порождают значения, порождают значения и, раз начавшись, генеративный процесс захватывает весь доступный ему смысловой объем — память читателя.
На лагерную редукцию всего, на повсеместный распад, на отнятые миллиметры, граммы и минуты, Шаламов отвечает повышением мерности и связности текста, воспроизводя недостаток — через избыток.
Собственно, «КР», в некотором смысле являет собой овеществленный антоним пастернаковскому
«В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту,» —
ибо повествование «КР», на поверхности — предельно простое, элементарное, ущербное в этой элементарности, — на деле представляет собой одновременно голограмму (где одно и то же сообщение воспроизводится на всех уровнях) — и вирус, каждый раз достраивающий себя из материала читателя.
Фактически Шаламов — вероятно, придя к тем же выводам параллельным курсом — строит взаимодействие «КР» с читателем по лотмановской модели взаимодействия текста — и человека — с культурой как целым.
«Подобно тому, как объект, отраженный в зеркале, порождает сотни отражений в его осколках, сообщение, введенное в целостную семантическую структуру, тиражируется на более низких уровнях. Система способна превращать текст в лавину текстов»[8].
Только место культуры в «КР» занимает лагерь. Невозможная для существования среда и порожденные ею аберрации, которые читателю в каждую конкретную секунду приходится перерабатывать самому.
«КР» — предельно авторитарный текст: лавина смыслов, обрушивающийся на читателя враждебный мир существуют как бы объективно и невозможно спорить с автором-которого-нет. «КР» — предельно антиавторитарный текст — он позволяет читателю определять все. И тем самым помещает его в собственную пограничную ситуацию. Не совпадающую с лагерной, но в некотором отдаленном смысле аналогичную ей функционально. И личную. В этом смысле неудивительно, что художественная природа «КР» как бы ускользает от внимания аудитории.
«Граница семиотического пространства — важнейшая функциональная и структурная позиция, определяющая сущность ее семиотического механизма. Граница — билингвиальный механизм, переводящий внешние сообщения на внутренний язык семиосферы и наоборот. Таким образом, только с ее помощью семиосфера может осуществлять контакты с несемиотическим и иносемиотическим пространством»[9].
Освоенная Шаламовым генеративная система позволяет воссоздать ощущение границы в сознании читателя, превратить лагерное «состояние» в сообщение, в знак, в доступную частичному осмыслению информацию. Включить в оборот опыт, к которому раньше культура была слепа — ибо он маркировался как не- и вне-человеческий и соответственно был невидим (вместе с приграничными секторами истории и культуры). От него можно было только оттолкнуться, но его нельзя было узнать.
Сам Шаламов был убежден, что его «новая проза» не привязана к лагерю как к предмету изображения. Что, не случись лагеря, он нашел бы ей иное применение. Что она более чем пригодна для работы с человеческими состояниями как таковыми. Везде, где культуре предстоит выдвижение на неосвоенную территорию, где нужно сначала создать язык, на котором можно будет понять, что видишь.
Тезис этот, как нам кажется, получил вещественное подтверждение, когда Алексей Герман снял «Хрусталев, машину» — произведение, простроенное на том же принципе отражения в зеркале и его осколках — от атомарного уровня совершенной черно-белой фотографии-кадра, наделенного индивидуальным смыслом, до фактически свободного сюжета (не фабулы) самого фильма, где именно аудитории приходилось определять, с чем она имеет дело.
Заметим, что у многих зрителей это обстоятельство вызвало яростную реакцию отторжения, возможно усиленную еще и тем, что к «Хрусталеву…», при всей хирургической точности деталей, все же нельзя было отнестись как к литературе факта, отгородиться от него как от давнопрошедшего, исторического, а потому иррелевантного события.
«Новая проза» играет роль пограничной заставы, образуя зону билингвизма, обеспечивающего контакт между несовместимыми мирами. Причем сама несовместимость — как и зона двуязычия — является частью сообщения. Транслирующего распад через распад — и свободу через свободу.
В «Пестрых рассказах» Элиана Сократ жалуется «Никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор».
Шаламов выводит на сцену обреченный на смерть хор — вкладывает ему в уста обреченную на распад и непонимание речь подземного мира — и присоединяется к нему в качестве хориста, сливается с ним.
Превращая читателя в со-свидетеля, в со-ответственного, в со-временника.
Notes
- 1. Их переписка в значительной степени посвящена совмещению исторического и культурного пространства.
- 2. Соответственно Е.В Волкова и М.Ю. Михеев.
- 3. Бацаев И.Д., Козлов А.Г., Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 85−88. См., например повторную жалобу производственной части на последствия внедрения «павловской» политики: «в тех палатках и бараках, где раньше помещалось 40−50 человек, стало жить по 100−120 человек. Столовые, рассчитанные на 1000 человек, стали кормить по 2000−2500 человек, подавая пищу через окошки на улицу при 40−50 морозе.
- 4. Рогинский А.Б. От свидетельства к литературе, Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории / Сб. статей. Сост. и ред. С.М.Соловьев. М.: Литера, 2013. С.13.
- 5. Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930 — 1953, Под общ. ред. акад. А.Н.Яковлева; Сост. Кокурин А.И., Моруков Ю.Н., М.: МФД, 2005. C.536-537.
- 6. Михеев М.Ю., О «новой прозе» Варлама Шаламова, Вопросы литературы. № 4, 2011. C. 183–214. [Электронный ресурс]: http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/mm9.html (дата обращения 30.05.2016)
- 7. Шаламовский сборник: Вып. 3. Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. C.101-114.
- 8. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн: Александра, 1992-1993. С.17-18.
- 9. Там же. С. 14.
The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.