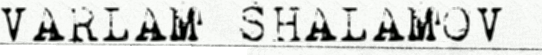
Лагерь и война. История побежденных от Варлама Шаламова
В сборнике «Артист лопаты» есть два рассказа, следующих один за другим, «Май» и «Июнь». Почему, недоумеваешь, сначала «Июнь» а потом «Май», — ведь в природе все наоборот?
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, победа в которой до сих пор считается звездным часом сталинской империи, величайшим событием советской истории. День Победы празднуется 9 мая. «Июнь» предшествует «Маю» потому, что война началась в июне, а закончилась в мае.
В этих рассказах — на первый взгляд непримечательных, а на самом деле фундаментальных для всего его творчества — Варлам Тихонович Шаламов впервые в русской литературе подает войну сквозь призму опыта лагерного доходяги.
Фабула, как всегда у писателя, незамысловата. Андреев, «фитиль», человек, страдающий от систематического недоедания и непосильного физического труда, встречает десятника, бывшего профессора артиллерийской академии, который сообщает ему о начале войны:
«“Слушайте, — сказал Ступицкий, — немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу”.
Андреев вежливо выслушал. Сообщение звучало, как известие о войне в Парагвае или в Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступицкий сыт, он десятник, вот его и интересуют такие вещи, как война»[1].
А в рассказе «Май» тот же Андреев обменивает на хлеб пропитанную порохом мешковину; делает себе из нее портянки (он изможден, ему надо попасть в больницу, чтобы выжить); садится в них у костра; портянки вспыхивают. Получившего ожоги заключенного доставляют в больничную палату.
«К вечеру в палату вошел врач. “Слышь вы, господа каторжане, — сказал он, — война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили”.
Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура»[2].
О величайшем дне в советской истории, дне Победы, на колымском прииске узнают с недельным опозданием, а, главное, Андреева — а это имя собственное концентрирует опыт сотен тысяч лагерников, из которых лишь немногие вернулись живыми, — ни начало, ни конец великой войны, стоившей жизни миллионам его соотечественников не интересуют. Им владеет «великое безразличие». У Андреева есть дела поважнее: достать хлеб, купить мешковину, отдохнуть на больничной койке от убивающего лагерного труда. Воздействие войны обитатели лагерного дна заметили разве что по устрожению режима, увеличению норм выработки («кубиков», на лагерном жаргоне) и сокращению и так скудной пайки.
История (в этом нельзя не согласиться с Вальтером Беньямином) — это история победителей, по крайней мере, это история, написанная от имени победителей. Делом жизни Шаламова было написание истории побежденных. Так радикально историческую оптику ни до, ни после него никто не менял. Не лагеря, как до сих пор считают в России многие, являлись частью сталинского «мобилизационного проекта», целью которого была победа над фашизмом (а великая цель, конечно, оправдывает любые средства), а война «играет роль психологического камуфляжа» по отношению к куда более сущностной лагерной теме или, более широко, к теме «уничтожения человека с помощью государства». В этом пункте писатель был непреклонен.
«Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиальном понимании — это, — писал он в своем манифесте “О прозе” (1965), — основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается с народом). За статистикой войны... хотят скрыть лагерную тему»[3].
Нетрудно заметить, что в оптике побежденных конвейер по уничтожению людей, без которого нельзя было бы осуществить проект создания «нового человека», не только исторически, но и логически, по своему значению, предшествует войне. Война камуфлирует то, что является более сущностным, «отмывая» лагерную тему, заставляя ее представать орудием исторической необходимости, неизбежным этапом подготовки к войне. О том, насколько актуальной и неприемлемой остается шаламовская оптика, его набросок истории побежденных, можно судить по тому, что при президенте Медведеве «фальсификациями истории, вредящими интересам России», с мая 2009 года занимается специальная комиссия, в состав которой входят не только историки, но и высокопоставленные военные, полицейские чины, представители спецслужб. В центре ее внимания — защита от « антироссийских фальсификацией» победы советского народа в Великой Отечественной войне. Не исключено, что за высказывания, подобные вышеприведенному, в скором времени (по крайней мере об этом предупреждают кремлевские политтехнологи) станет возможным привлекать к уголовной ответственности. И в современной России жертвы сталинского террора, от имени которых писал автор «Артиста лопаты» и «Очерков преступного мира», по сути лишены права голоса — за них по-прежнему говорят победители, обрекающие на немоту сотни тысяч лагерных доходяг.
Иностранцы часто удивляются: почему, вы, русские, говорите о войне так, как если она кончилась вчера, а не стала достоянием истории прошлого века?
Ответ прост: событие Победы не станет историей до тех пор, пока российская власть — какой бы «капиталистической» не провозглашала она себя на словах — в целях собственной легитимации не перестанет нуждаться в режиме, сначала создавшем ГУЛАГ, а потом ценой беспрецедентных жертв выигравшем войну.
И «Артист лопаты», и «Очерки преступного мира» — книги о морали, точнее, о неизбежном распаде морали в условиях лагеря. Вольнонаемный инженер бьет заключенных, интеллигент становится «романистом» у блатных, бригадир палкой выбивает план из измученных людей. Лагерь подобен катку, разравнивающему пространство тоталитарной власти, уничтожающему все различия (национальные, сословные, классовые, образовательные). В предлагаемых читателю текстах неизгладимо запечатлелось кредо писателя: лагерь — школа абсолютной негативности, опыт, о котором не надо знать человеку.
Но парадоксальным образом Шаламов посвятил литературному освоению этого непродуктивного, стерильного, казалось бы, никому ненужного лагерного опыта свою жизнь.
И это не единственная загадка его творчества.
На периферии почти всех лагерных рассказов писателя гнездятся существа с наколками на теле, говорящие на особом языке, окруженные сторонниками, готовыми беспрекословно выполнить любой их приказ. Они, члены «проклятого ордена», сами не работают, обворовывают и грабят (в основном руками своих подручных) других заключенных, играют в карты до полной победы одного из противников, принципиально не подчиняются требованиям администрации.
Именно они, эти «не-люди», навязывают лагерю свой закон; именно их больше всего ненавидит наш автор. Писатель видел искру человечности в последнем звере из лагерного начальства, обслуги или охраны, в самом жестоком бригадире, нарядчике, дежурном по бараку. Единственные, кому он упорно в ней отказывал — блатные, воры в законе, «жуки-куки», «люди», «паханы», «авторитеты». В ненависти Шаламова к блатному миру было что-то религиозное, при соприкосновении с блатными в нем, далеком от христианской религии человеке, оживал непримиримый дух протопопа Аввакума. Последние слова «Очерков» звучат как набат, как заклинание: «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!».
Члены «проклятого ордена», — не уставал повторять Шаламов, — не просто преступники. Само по себе совершение преступления еще не делает «оступившегося человека» «настоящим вором». И медвежатник, вскрывающий хитроумные сейфы, вовсе не обязательно блатной. Для принадлежности к «ордену», чтобы быть его признанным, полноправным членом нужно прежде всего проводить в жизнь, толковать и применять к изменяющимся обстоятельствам особый воровской закон. Писатель ненавидит в блатных не столько преступников (для обычных преступников он находит слово понимания), сколько носителей антисоциального закона, распространяющего свою власть на лагерную жизнь, пронизывающего ее снизу доверху. В мире блатных преступление качественно преображается, получает «теоретическое» обоснование, находит свой собственный закон. Член «подпольного ордена» перестает быть просто «оступившимся человеком»; вступив в воровской закон, он навсегда перерезает связи с обществом. Это и делает его в глазах автора «Очерков» не-человеком. Служитель даже самого извращенного социального закона (а сталинский закон был таковым в высшей мере) все-таки остается человеком, носитель же асоциального закона беспорно теряет эту привилегию. Развращенность такого существа запредельна воображению обычного человека, в том числе «оступившегося» преступника (в доказательство писатель ссылается на распространенные в блатной среде педофилию, зоофилию, презрение к женщине, а также на зверские ритуалы наказания отступников).
Здесь мы подходим к главному парадоксу этой книги.
Шаламов упрекает русскую литературу в лице Достоевского, Чехова, Горького в том, что она «отшатнулась» от этой болезненной темы, от ужасного лика блатного мира. В то же время он не исключает, что в их время этого человеческого типа просто не существовало. Но если это так, ставить в упрек дореволюционной литературе отсутствие интереса к «проклятому ордену» все равно, что упрекать Гомера за то, что в «Илиаде» нет описания закусочных «Мак Дональдс», компьютеров, танков и космического кораблей.
С одной стороны, автор «Очерков» считает «подземный мир» блатных очень древним («Этот мир существовал всегда...»[4], «История уголовщины, насчитывающая множество тысячелетий...»[5], «с гутенберговских времен...»[6]). С другой же, он не приводит ни одного доказательства этой древности.
Допустить, что социальный закон сталинского времени не просто укреплял воровской закон, но впервые делал его в таком виде возможным, что мощь асоциального закона была частью социального запроса, Варлам Тихонович Шаламов не мог. Он еще связывал человеческую нравственность с социальным законом. Несмотря на пережитые им нечеловеческие страдания, автор «Очерков» — моральный — и в этом смысле «ветхий», традиционный — человек, не постигающий до конца криминальной глубины самого сталинского мира, из которой рождается привилегированный статус блатных внутри лагеря. Утверждая идеи «перековки» и социальной близости блатных, юстиция и литература того времени вовсе не заблуждались — «проклятый орден» действительно был ближе новой атеистической власти, чем более традиционные человеческие типы, из которых еще предстояло выковывать «нового человека». Блатные из подлежащих перевоспитанию преступников стали союзниками нового закона. Именно их руками, не раз повторяет Шаламов, НКВД расправилось в 1938 году с «троцкистами», последней организованной оппозицией сталинскому режиму.
Другими словами, свой мандат на господство над лагерным миром блатные получили от сталинской власти, объявившей их «социально-близкими». В лице воров в законе перед нами маячит не нечто древнее, чуть ли не изначальное: они — уникальный феномен советского времени, аналогов которому мы не находим ни за рубежом, ни в дореволюционной России. Он связан с той формой, которую Террор принял в результате «раскулачивания», «второй, сталинской революции». Раскулаченные крестьяне не просто пополняют ряды блатных, о чем пишет Шаламов, — форсированная урбанизация, жертвами и одновременно агентами которой они являются, создает фон, на котором асоциальный воровской закон впервые приобретает отсутствующие у него ранее черты всеобщности. Он распространяет свое влияние не только на лагерь, но и на «замордованную», по выражению Солженицына, волю. Читая «Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона»[7], любой воспитанный в советское время человек (в том числе никогда не сидевший за решеткой) может без труда убедиться: многие слова воровского языка («блатной фени», «блатной музыки») для него в переводе не нуждаются. «Шмон», «малина», «параша», «шалава», «фармазон», «фрайер», «стучать», «отбивать понт», «фарцевать», «загудеть» — эти и подобные им слова он слышал, читал, а иногда (например, в армии, в кампании друзей) и употреблял. Смысл их ему во всяком случае объяснять не надо. Конечно, это не делает каждого советского человека блатным, но «капля жульнической крови», о которой с ненавистью писал автор «Колымских рассказов», была не только у членов «проклятого ордена» и их окружения: она была у врачей, у следователей, писателей, военных, рабочих, крестьян, профессоров, членов ЦК и Политбюро, мужчин, женщин, детей. Блатная романтика вошла в плоть и кровь советского человека.
Лагерный опыт излечил Шаламова от преклонения перед народом. В этом плане его разногласие с Солженицыным принципиально и неразрешимо. Создатель «Колымских рассказов» остался поклонником послереволюционной культуры 20-х годов, времени, когда он и его друзья (многие из которых действительно были троцкистами; почти никто из них не выжил) верили в возможность радикального изменения мира. И тем сильнее он ненавидел сталинизм, раздавивший революционный эксперимент, уничтоживший или поработивший всех его ведущих представителей. Там, где автору «Архипелага ГУЛАГ» видится простое крешендо большевистского насилия, его более пострадавший собрат по перу усматривает две разных, непримиримо противостоявшие друг другу культуры. Национализм Солженицына примирил его со своим временем; революционный романтизм Шаламова его с них развел. До сих пор для российского читателя, пожалуй, нет автора более трудного при кажущейся прозрачности написанного, чем Варлам Шаламов.
Великая Отечественная война не играет в «Очерках преступного мира» особой роли. Она упоминается почти исключительно в связи другой войной, потрясшей ГУЛАГ в последние годы правления Сталина. В отличие от «политических» (я беру это слово в кавычки потому, что осужденные по знаменитой 58-ой статье в массе своей не были противниками режима; обвинения против них были сфабрикованы следствием), которым категорически отказали в отправке на фронт, блатные — часто против своей воли, под дулами автоматов — были призваны в армию и приняли в войне активное участие. А когда после войны они возвратились к своему ремеслу, взялись за старое, и снова оказались в лагере, бывшие товарищи отказались принять «военщину» в свои ряды. Воевавшие — звучал вердикт воровских «правилок» — нарушили закон, взяли в руки оружие, подчинились приказу государства. Настоящий вор, напомнили им, должен уметь соблюсти закон в любых условиях.
Объявленные предателями («суками»), исключенные из воровской среды, вчерашние фронтовики объявили «законникам» войну не на жизнь, а на смерть. Они заверили лагерное начальство, что «перековались» и будут сотрудничать с ним.
Но на уме у них было совсем другое. В 1941 году их самих за отказ служить в армии наверняка расстреляли бы по закону военного времени. Так пусть же теперь их обвинители, блюстители воровского закона, попробуют устоять под лезвием приставленного к их горлу ножа! Началась «сучья война», повлекшая огромные жертвы с обеих сторон. Писатель, после войны работавший фельдшером в лагерной больнице, мог наблюдать ее последствия своими глазами: воров и «сук» никогда не клали в одну палату, а потом и в одну больницу — иначе они перерезали бы друг друга.
Если вчитаться в «Очерки» повнимательней, отношение Шаламова к блатным на поверку оказывается не столь однозначным. Блатные не только жили в лагере за счет других (более сытно ели, лучше одевались), но и «отличались определенной твердостью взглядов и завидным разудалым, бесстрашным поведением»[8]. Они были единственной сплоченной группой, чьи лидеры («законники», «паханы») пользовались безусловным авторитетом. И это волей-неволей заставляло уважать «не-людей». Именно по отношению к блатным из-под пера писателя как бы невольно вырываются слова «аристократия», «голубая кровь», «принцы жульнической крови». Видимо, готовность блатных жертвовать жизнью — пусть во имя того, что писателем яростно отвергается и проклинается — на фоне всеобщего порабощения обладала даже в глазах Шаламова определенным потенциалом соблазнения. Думаю, не только вчерашний крестьянин или сломленный голодом интеллигент начинал видеть в них «носителей лагерной правды»[9].
«Карфаген» так и не был разрушен. Хотя со времени, когда писались «Очерки преступного мира», прошло пятьдесят лет, ненавидимый Шаламовым блатной мир не ушел в прошлое; напротив того, он распространился далеко за пределы тюрьмы и лагеря, став частью социальной нормы. Его короли, воры в законы, которых можно опознать по татуировкам на их теле (трефовая или пиковая масть, орлиные крылья, корона и т.д.), до сих пор контролируют в России бизнес, решают экономические споры, не чужда им и политическая сфера, в которой они имеют своих представителей[10].
Ничего похожего на «проклятый орден» мы не находим в нацистских концлагерях. Там профессиональные преступники, опознавательным знаком которых был зеленый треугольник, также пользовались благосклонностью СС. Но это были обычные рецидивисты, организованные значительно хуже политических заключенных (прежде всего социал-демократов и коммунистов)[11]. В отличие от политических, они часто предавали друг друга; в этом их сдерживало, — пишет Пауль Мартин Нойрат, прошедший Дахау и Бухенвальд, — только одно — опасение мести со стороны товарищей[12].
Портрет «колымского мученика» в исполнении Шаламова чем-то напоминает набросок душевного состояния узника Освенцима, оставленный Примо Леви. «konkret sind Hunger und Trostlosigkeit; alles übrige ist irreal…»[13].
«Im Lager ist das Denken unnütz, denn die Geschehnisse treten zumeist in unvorhergesehener Weise ein; und zudem es ist schädlich, denn es enthält eine Sensibilität, die ein Quell des Schmerzes ist und die irgendein vorsorgliches Naturgesetz stumpf macht, sobald das Leiden ein bestimmtes Maß überschreitet»[14].
Из-под пера автора «Колымских рассказов» также вышло немало подобных фраз.
Но в одном он расходился с Леви, для которого «не-людьми» являются все обитатели лагерного мира. Когда он пишет «Die hier beschriebene Personen sind keine Menschen»[15], это распространяется не только на носителей зеленого треугольника. Неслучайно итальянский автор назвал свою (во многом автобиографическую) книгу «Человек ли это?» — в описываемом им мире человеком не дано остаться никому. Проявления человечности в концлагерном универсуме — чудо, необъяснимое из созданных там условий.
Наиболее душераздирающим в цикле «Артист лопаты» является, на мой взгляд, единственный рассказ, не имеющий прямого отношения ни к чистилищу Вишеры, ни к колымскому аду, через которые прошел Варлам Шаламов. Он написан в том же 1959 году, что и «Очерки преступного мира», и называется «Крест». Слепой священник каждое утро ходит доить коз, утешая себя мыслью, что помогает семье. Его жена знает: подорожавшие корма и налоги на мелких животных делают это занятие убыточным, но не решается сказать об этом мужу, привыкшему быть кормильцем большой семьи. Бедная больная женщина выбивается из сил, чтобы прокормить себя и мужа. Старший сын, в духе времени, публично отрекается отца-священника, чтобы «очиститься» в глазах атеистической власти от чуждого «социального происхождения»; дочери живут в нищете; младший сын сначала высылает из Москвы немного денег, «но вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся»[16].
И вот все продано, в это утро не на что купить корм козам. Священник приказывает жене принести единственную оставшуюся ценность, золотой «наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа»[17]. На глазах сначала зарыдавшей, а потом онемевшей от горя жены слепой разрубает крест на куски со словами: «Разве в этом бог?». Женщина складывает куски в коробку. Семье какое-то время будет на что жить.
В основе текста — биографическое повествование. Прототипы слепого священника и его жены — родители Варлама Тихоновича Шаламова. Младший сын, след которого теряется после ареста, — сам писатель. Золотым крестом вологодского священника Тихона Шаламова наградили за многолетнюю миссионерскую работу на Аляске.
Прямого отношения этот текст к ужасам Колымы, казалось бы, не имеет, его действие относится к началу 30-х годов (слепой священник умер в 1933 году, его жена — 1934 году, еще до начала Большого Террора). Но в каждой строке рассказа уже дает о себе знать та бесчеловечная, сметающая все моральные препятствия сила, из которой вскоре возникнут и массовые репрессии, и концлагеря, и зверства лагерного начальства, и непререкаемая власть блатных над лагерным населением. В отчаянии от непроходимой нищеты разрубающий крест слепой священник, превращение фигурки Христа под ударами его топора в куски золота, — как нагляднее можно передать разрыв с миром, где еще правило трансцендентное, божественное начало!
Императив Шаламова-писателя ясен: где уже нельзя спасти Бога, нужно тем бережнее хранить след его присутствия, то, что от него осталось — человеческую мораль.
Истоки стоической приверженности писателя нравственному закону в невыносимых условиях Колымы, корни его страстной, непримиримой вражды к блатному миру нужно искать именно здесь, в истории его семьи, в богоборческом жесте отчаявшегося отца.
Notes
- 1. Шаламов В.Т. Собр. соч. в 6 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. Т. 1. С. 551.
- 2. Там же, с. 563.
- 3. Warlam Schalamow. Über Prosa, Berlin, Mathes und Seitz, 2009, S. 30.
- 4. Шаламов В.Т. Собр. соч. Т. 2. С. 38.
- 5. Там же, с. 77.
- 6. Там же, с. 11.
- 7. См.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. Речевой и графический портрет советской тюрьмы. М.: Края Москвы, 1992.
- 8. Шаламов В.Т. Собр. соч. Т. 2. С. 27.
- 9. Там же.
- 10. См. «Воры в законе» на госслужбе // Новая газета, 17.09.2001.
- 11. Wolfgang Sofsky. Die Ordnung des Terrors: das Konzentrationslager, Fr.-am-Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 2004, S. 141 etc.
- 12. Paul Martin Neurath. Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald. Fr.-am-Main, Suhkamp, 2004. Нойрат пишет: «Als die Lagerleitung ihr System von Blockältesten und Arbeitskapo einführte, nahmen sie dafür als Erstes die politische Häftlinge, weil diese sich bereits auskannten. Die ganze mit diesen Positionen verbundene Macht kam so in die Hände der Politischen. Sie entwickelten sich auch rasch zur moralische Elite des Lagers. Sie beherrschten die übrige Häftlinge sowohl aufgrund ihrer Zahl als auch aufgrund ihrer besseren Organisation» (S. 90). Подобный статус политзаключенных – вещь в сталинских лагерях совершенно невозможная. Положение осужденных по 58 статье, особенно «троцкистов» (а у Шаламова вначале лагерного срока была именно эта статья), напоминало скорее положение евреев в нацистских лагерях. Они были обречены на общие работы, что для большинства означало скорую смерть. Организованы они были значительно хуже блатных.
- 13. Primo Levi. Ist das ein Mensch? Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1999, S. 141.
- 14. ibid., S. 205.
- 15. ibid., S. 147.
- 16. Шаламов В.Т. Собр. соч. Т. 1. С. 486.
- 17. Там же, с. 488.
The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.