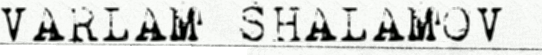
Шаламов — Воронский — Мандельштам: Литература как воля к сопротивлению
От редакции: Публикация данной статьи приурочена к 115-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982).
Сочетание трех имен, вынесенных в заглавие этой статьи, может вызвать недоумение. Александр Константинович Воронский — профессиональный революционер-большевик, литературный критик, редактор и писатель, расстрелянный как «троцкист» в 1937 году. Варлам Тихонович Шаламов — писатель, автор великих «Колымских рассказов», который как «троцкист» провел 20 лет в сталинских лагерях и ссылках, из них почти 17 — на Колыме. Осип Эмильевич Мандельштам — великий поэт серебряного века, погибший в лагере под Владивостоком и только поэтому не попавший на Колыму.
Кажется, что их объединяет только принадлежность к писательской профессии. А также тот факт, что все трое были жертвами массовых репрессий при сталинской диктатуре. Но это далеко не всё.
О традиции революционной и литературной. На первый взгляд, с понятием литературной традиции дело обстоит куда проще, чем с понятием традиции революционной. Революция — враг традиции, во время революций традиции ниспровергаются, а в революционном искусстве авангард торжествует над классикой. Это верно, но только отчасти. Революция сама создает свою традицию, и она должна опираться на традицию борьбы, без которой, как показывает анализ истории протестных и революционных движений, ничего не получается, в лучшем случае — популизм и манипуляция. Успешная революция (имеется в виду революция в традиционном марксистском понимании, а не в смысле политических технологий по производству дворцовых переворотов со сменой в самом радикальном варианте одного клана капиталистической олигархии другим) не может не опираться на традицию. Кубинская, французские, российские революции (вне зависимости от послереволюционного развития этих стран) — тому ярчайшие примеры. В России революционеры 1917 года опирались и на международную традицию — прежде всего на опыт французских революций (особенно Парижской Коммуны), немецкой социал-демократии и английского профсоюзного движения, и на свою собственную — революционную демократию со времен Белинского, Герцена и Чернышевского, на народовольчество и недавнюю революцию 1905 года. Речь идет не только о непосредственном опыте борьбы и пантеоне героев, хотя всё это имеет большое значение, но о выработке особой этики, особого социального идеала, который противостоит существующему и служит путеводной звездой и для искушенных профессиональных революционеров, и для неофитов, только примкнувших к революционному движению. Сила этого социального идеала была такова, что в 1917 году, как известно, около 90%, то есть большинство жителей страны, поддерживало социалистов — эсеров, меньшевиков или большевиков [Колоницкий, 2017, с. 132–133].
Революционно-демократическая традиция, соединявшая в себе ценности Просвещения, гуманизма, социалистический идеал и искреннее уважение и любовь к народу, основанная не только на трудах социалистов-утопистов, Герцена, Чернышевского, Кропоткина, Маркса, Плеханова, но и на русской классической литературе, при всей разнице политических программ, объединяла разные ветви революционного движения и значительную часть интеллигенции.
Эта революционная традиция после Гражданской войны до конца 1920-х годов поддерживалась, именно к ней адресовалась этика нового государства. Но затем — в сталинский период — старательно выкорчевывалась и выхолащивалась. Вехой здесь может служить формальная дата — ликвидация Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1921–1935) и почти одновременно — Всесоюзного общества старых большевиков (1922 – 1935). Бывших героев революции в середине 1930-х годов сталинское государство стремительно превращало во «врагов народа» и подвергало репрессиям.
…13 января 1937 года молодой, но уже опытный журналист и начинающий писатель Варлам Шаламов был вторично арестован. Первый раз его судили в 1929 году как «социально-вредный элемент». Тогда он был арестован во время засады на месте подпольной типографии, где печаталось так называемое «Завещание Ленина» — письмо Ленина 1923 года к съезду партии с резким осуждением Сталина. В 1931 году Шаламов вышел из североуральских лагерей, отошел от участия в левой («троцкистской») оппозиции и активно занялся журналистским ремеслом и писанием рассказов (которых из сотни сохранилось всего 6). Второй арест его не удивил: «С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой “социальной” группы — всех, — кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить»[Шаламов, 2013, т. 4, с. 307]. Про свое вторичное пребывание в московской Бутырской тюрьме Шаламов написал рассказ и отдельную заметку-эссе под одним и тем же названием — «Лучшая похвала». В ней он получает эту лучшую похвалу от «генерального секретаря общества политкаторжан» правого эсера Александра Георгиевича Андреева: «Вы — можете сидеть в тюрьме, можете. Говорю вам это от всего сердца. Похвала Андреева была самой лучшей, самой значительной, самой ответственной похвалой в моей жизни. Пророческой похвалой»[там же, т. 1, с. 282].
Многие исследователи отмечают, что реальный А. Г. Андреев никогда не был генеральным секретарем этого общества. Однако, по моему убеждению, Шаламов не ошибся в рассказе и эссе. Не случайно он — в утверждение документальности своего рассказа — вставил в его завершение сухую биографическую справку об А. Г. Андрееве из журнала «Каторга и ссылка», издававшегося обществом политкаторжан. Конечно, Шаламов знал, что Андреев был просто членом этого общества. Но ему было важно повысить в глазах читателя статус этого революционера, чтобы показать символическую передачу эстафеты от одного носителя традиции к другому — самому Шаламову:
Я понимал, что моя тюремная деятельность нравится старому каторжанину. Я был не новичок, знал, чем и как надо утешать павших духом людей... Я был выборным старостой камеры. Андреев видел во мне — самого себя в свои молодые годы. И мой всегдашний интерес и уважение к его прошлому, мое понимание его судьбы было ему приятно. [Там же]
Вместе с «лучшей похвалой» состоялась передача эстафеты — на Колыму Шаламов отправился как носитель революционной, освободительной традиции, которую ему предстояло пронести через лагеря и ссылку в послесталинскую страну. И не случайно в ряде рассказов альтерэго автора получает фамилию Андреев (наряду с собственным именем Шаламов использует в рассказах фамилии «Крист» и «Андреев»).
Революционная традиция в СССР была прервана сталинизмом, причем не только в политике, но и в культуре.
Вопреки распространенному мнению, в 1920-е годы Серебряный век русской культуры не превратился в спад, а сменился новым подъемом. Бунин, Бальмонт, Ходасевич эмигрировали, но появились новые авторы, не уступавшие талантом уехавшим, — Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Всеволод Иванов, Артем Веселый, Борис Пильняк, Исаак Бабель. Публикацией повести «Партизаны» Вс. Иванова открылся первый советский литературный журнал «Красная новь». Его редактором был Александр Константинович Воронский.
Воронский — сын священника, профессиональный революционер-большевик, литературный критик, организатор и теоретик литературы, писатель, участник антисталинской оппозиции 1920-х годов, один из самых ярких людей своего поколения, однако до сих пор остающийся в тени. Хотя такое сочетание — профессиональный революционер и одновременно один из создателей лучшей традиции советской литературы, сохранившейся несмотря на репрессии, — должно привлекать большое внимание.
Первый номер «Красной нови» вышел в 1921 году. Создание первого советского толстого литературного журнала было поручено журналисту, бывшему члену Иваново-Вознесенского губернского комитета РКП(б), специалисту по эмигрантской литературе Александру Воронскому[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 192. Л. 5; Ф. 17. Оп. 112. Д. 286. Л. 4; Ф. 17. Оп. 112. Д. 339. Л. 87]. В журнале была не только художественная проза и поэзия: политический раздел открывался статьей В. И. Ленина «О продналоге» — теоретическим и практическим манифестом новой экономической политики (НЭПа).
...В 1956 году Варлам Тихонович Шаламов вернулся из ссылки за 101-й километр в Москву, получив справку о реабилитации (правда, только по двум делам из трех, за которые он был осужден: по делу 1929 года он был реабилитирован посмертно только в 2000-м году). Александра Воронского реабилитировали посмертно 7 февраля 1957 года, и уже на следующий год Шаламов опубликовал в журнале «Москва» небольшой очерк под названием «Первый номер “Красной нови”»[1]. Этот очерк был отдан в редакцию «Москвы» в октябре 1957 года, а вышел в No 5 за 1958-й. Правда, если «в первоначальном варианте фамилия “Воронский” упоминалась двенадцать раз, в напечатанном — всего четыре»[Гаврилова, 2013, с. 85]. Сопоставление опубликованно- го и изначального вариантов очерка крайне интересно. В первом варианте не раз звучит имя В. И. Ленина, упоминается Н. К. Крупская, другие известные большевистские лидеры, классик советской литературы А. М. Горький. Шаламов, опираясь на эти имена, протаскивал в подцензурную печать имя Воронского, боролся за его культурную, а не только формально-правовую реабилитацию, — боролся за ту традицию, которую олицетворяло имя Воронского.
Имя Воронского много значило для Шаламова не только потому, что он общался с ним в 1920-е и, возможно, в 1930-е годы. На Колыме, где он провел шестнадцать лет, Шаламов познакомился с дочерью Александра Константиновича, Галиной Александровной Воронской, общение с которой продолжалось почти до самой смерти Варлама Тихоновича. В 1976 году он писал ей после того, как получил главную книгу А. К. Воронского «За живой и мертвой водой», наконец изданную в СССР:
С удовольствием перечитываю каждую строчку «За живой и мертвой водой» — ведь это наша живая юношеская классика, где мы учили каждый абзац, каждый сюжетный поворот, каждый образ, учились воспитывать в себе единство слова и дела.
Отредактирована книга, прямо сказать, неважно. Режет глаза, например, отсутствие отдельного эпиграфа к 3 части «За живой и мертвой водой»:
«И маршалы зова не слышат,
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили,
И продали шпагу свою»«Воздушный корабль»
Вот этот самый эпиграф — журнальный текст — передавали из рук в руки во всех студенческих общежитиях Москвы, да и не только в студенческих.
Эпиграф из Лермонтова отсутствовал во всех советских изданиях данной книги, кроме первого. Слишком явным был намек, почти такой же, что и в поэме Пастернака «Высокая болезнь», в последних ее строках:
Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Современники прекрасно понимали, кого имели в виду Воронский и Пастернак, на что они намекали — на смерть Ленина и ту диктатуру, что последовала за ней. Интересное пересечение: Пастернак посвятил поэму Борису Пильняку, который ранее посвятил «Повесть непогашенной луны» (опубликованную в «Новом мире» В. П. Полонского) редактору «Красной нови» Александру Воронскому…
В 1920-е годы литературная жизнь во многом определялась неистовым спором между сторонниками Российской ассоциации пролетарских писателей (РАППа), созданной в 1925 году, и кругом «Красной нови» и литературной группой «Перевал», созданной при активном участии Воронского (который в нее формально не вошел) в 1923 году. Численно РАПП был гораздо больше, но читали в большей степени «перевальцев» и других так называемых «попутчиков» — писателей и поэтов, не принадлежавших к ВКП(б), которых активно публиковал А. К. Воронский. Круг этих писателей был весьма широк — от А. Н. Толстого, будущего классика соцреализма, до... Осипа Мандельштама. «Красная новь» стараниями Воронского быстро стала центром притяжения живых творческих сил советской культуры, объединяя большевиков и талантливых небольшевистских авторов. Осип Мандельштам не только печатал свои стихи в журнале Воронского [см., напр. Мандельштам, 1923], но и издал сборник стихов («Вторую книгу») в перевальском издательстве — артели писателей «Круг». Казалось бы, Мандельштам чужд тому искусству и той поэзии, которую пропагандируют критики из «Красной нови», тем более что поэзии они уделяли куда меньшее внимание, чем прозе (в отличие от других своих оппонентов из ЛЕФа). Но Воронский и его группа видели в Мандельштаме то, что Шаламов называл «правдой таланта». Они были убеждены, что идеологическая близость не может быть заменой таланту, поэтому и Мандельштам, и Бабель, и многие другие авторы находили место на страницах «Красной нови».
Авторы «Красной нови» печатались и перепечатывались в эмигрантских, прежде всего берлинских, изданиях, а сам журнал активно следил за культурными и политическими процессами в эмиграции. Так, Воронский был одним из первых, кто глубоко проанализировал явление «сменовеховства» в эмигрантской среде [Воронский, 2012].
История противостояния «Красной нови» и РАППа изучена уже достаточно хорошо [см. Белая, 2004; Магуайр, 2004]: сторонники единства формы и содержания в художественном произведении столкнулись с апологетами жестко идеологизированного агрессивного вульгарного социологизма, стремившимися использовать все государственные и партийные механизмы для борьбы со своими противниками. Происхождение и политические взгляды — этого для большинства сторонников РАППа и его органа «На литературном посту» было достаточно для критики тех или иных авторов. Формально с 1928 года побеждать стал РАПП, но в 1932 году решительным вмешательством руководства партии (постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций») было положено начало созданию единого Союза писателей, а все остальные группы ликвидированы.
Выдающий исследователь литературы 1920-х годов Г. А. Белая назвала модели революционной культуры в заглавии одноименной антологии — «опытом неосознанного поражения», а позицию Воронского в этом споре — донкихотской (определение из названия ее выдающейся книги, впервые вышедшей в 1989 году). Признавая очень большое и серьезное значение работ Г. А. Белой, следует не согласиться с ней в этих характеристиках, особенно с учетом документов и материалов, ставших доступным исследователям после выхода ее книг.
Прежде всего, поражение в борьбе как политической — против устанавливающейся сталинской диктатуры, — так и культурной — против упрощенчества и жесткого идеологического диктата в литературе, было осознано Воронским. Тому свидетельства — самая главная его книга «За живой и мертвой водой», очерки и рассказы начала 1930-х годов, а также не дошедшие до нас рукописи, изъятые при аресте. Воронский понимал, что наступает термидор, что революция переходит в иную фазу и на первый план в условиях диктатуры выбиваются карьеристы, приспособленцы и интриганы. Это один из важнейших мотивов «За живой и мертвой водой» и публицистики Воронского:
Есть много разновидностей литературных прохвостов, но из них основных два: одни «энергично фукцируют», другие «фукцируют» совсем тихо. Но тихий подхалим тоже чего-нибудь стоит. Недавно я встретил такого: он вползал в редакцию, как сладкая вошь. <...> Известно, что и по сию пору ведутся страстные литературные споры. Есть два литературных лагеря: вот тут-то прохвост и пролаза и празднуют свой праздник.
Как это делается? Очень просто!
В редакцию приходит юркий человечек. Он развязен, но скромен. У него маленькие, но острые и бегающие глазки. Он желает что-то поместить. Через несколько дней редакция возвращает ему рукопись, при чем дают понять, что редакция держится другого, можно даже сказать, совсем противоположного взгляда.
— В самом деле, — молниеносно соглашается выжига, — возможно, что вы правы. Я переделаю…
— ?..
Предположим даже, «переделка» не удалась. Проходит две-три недели. Пролаза орудует в другом лагере. Вот и все. А еще через неделю на одном из литературных собраний вы слушаете раскрывши рот и выпучив глаза его вдохновенную речь о социальном заказе пролетариата или еще о чем-нибудь в этом роде. Сегодня он ярый фрейдист, а завтра придерживается самой строгой плехановской ортодоксии, хотя о Плеханове он слышал из четвертых рук. Сегодня он превозносит Пильняка, а завтра он изобличает истинного пролетарского поэта в мелко-буржуазных уклонах. Он уже тверд и беспощаден, он «идеологически выдержан» до последнего нейрона мозгов своих. [Опыт неосознанного поражения ... , 2001, с. 184–186]
Здесь Воронский писал прежде всего о литературных «пролазах», но подразумевал отнюдь не только их. Он вступил в оппозицию и боролся против бюрократизации партии, уничтожения внутрипартийной демократии, потому что понимал: именно такие «сладкие вши» и губят революцию. По свидетельству дочери Александра Константиновича Галины, ее отец говаривал в 1930-е: «Откуда у нас столько старых большевиков? В годы реакции нас оставались буквально единицы. А теперь только и читаешь: член партии с 1904, с 1905 года. И фамилии все какие-то незнакомые, интересно, что они делали до революции, и где были?» [Воронская, 2007, с. 249].
Та же картина нарисована Воронским в рассказе «Юла», главный герой которого литературный карьерист и филистер носит говорящую фамилию Петляев [Воронский, 2016].
Определение позиции Воронского как либерализма тоже, по сути, не исторично. Воронский и его сторонники никогда не были либералами, он был идейным коммунистом и революционером. Конечно, Г. А. Белая использовала слово «либерализм» не в прямом значении политико-идеологической идентификации, но сама идея, в соответствии с которой большевик-коммунист должен быть либералом лишь потому, что он отстаивает плехановскую, то есть классически марксистскую идею свободы творчества, не верна по сути. Именно такая позиция и была большевистской в первой половине 1920-х годов, проиграв затем сталинской позиции тщательного контроля над культурными процессами.
Наконец, поражение тоже было относительным. Да, Воронский был снят с поста главного редактора «Красной нови», отправлен в ссылку, после которой «сломал свое перо журналиста» [Шаламов, 2013, т. 4, с. 281], а в 1937 году был расстрелян. Но идеи «Красной нови» не были забыты. В 1930-е их подхватил журнал «Литературный критик» и один из его вдохновителей М. А. Лифшиц (один из создателей марксистской эстетики, близкий друг и в определенном смысле наставник Д. Лукача). Тупиковость пути вульгарного социологизма, невозможность тотального контроля за литературным творчеством заставили даже сталинские власти идти на определенные компромиссы в культурной политике. «Социальные заказы» в литературе, которые призывали не слушать критику «Красной нови» [Горбов, 1929, с. 28–29], стали определяющими, но всё-таки талант не был отдан им на откуп полностью. Между 1920-ми и 1930-ми годами был жесточайший разрыв — но была и преемственность, о которой легко, однако совершенно неверно забывать. Культурную и философскую эстафету Воронскому удалось передать несмотря на смерть.
Власти поставили литературу под жесточайший контроль. По свидетельству, в частности, К. М. Симонова, Сталин лично прочитывал все книги, выдвигавшиеся на Сталинскую премию, и без его мнения она не присуждалась до самого одряхления тирана. Многие функционеры РАППа получили руководящие посты в Союзе писателей, например, А. А. Фадеев и В. П. Ставский (написавший, помимо прочего, донос на Осипа Мандельштама), чей талант был весьма невелик. Но необходимость привлечения талантливых «попутчиков», сохранения дореволюционной интеллигенции — это власть тоже усвоила, причем не только в чисто пропагандистских целях. Такая политика сохранила возможность писать и даже жизни многим деятелям культуры в эпоху «Большого террора». При этом Фадеев и другие РАППовцы, которые легко восприняли идею, согласно которой верховным арбитром в культуре должен быть именно вождь — Сталин, оказались востребованы, несмотря на то, что некоторые из их соратников были репрессированы (В. М. Киршон, Л. Л. Авербах). Но востребованы они оказались прежде всего как чиновники, а не как писатели. Победила своеобразная полу-РАППовская позиция: вольности в литературе и среди литераторов возможны, но по воле вождя и в рамках «социального заказа» — то есть «партийной линии». Однако без этой ограниченной зоны свободы советская культура превратилась бы в сталинский период в чисто вытоптанное поле, чего всё-таки не случилось. Традиция свободы творчества, не вмещающейся в жесткие идеологические рамки, та самая традиция, которую отстаивал Воронский, была все-таки сохранена.
Шаламов и в 1920-е, и в послесталинские годы был, безусловно, на стороне «Красной нови» в этом споре. Воронский был важен Шаламову не только как сторонник оппозиции, в которой участвовал и сам будущий автор «Колымских рассказов», воспринимавший в молодости книгу «За живой и мертвой водой» как «катехизис подпольщика, где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах» [Шаламов, 2013, т. 4, с. 585]. Менее очевидный факт: эстетическая программа Шаламова, которую исследователи чаще всего сопоставляют с наследием ЛЕФа, отталкивалась также и от взглядов Воронского на литературу.
Шаламов во многих своих текстах пишет то, что вполне могли бы одобрить ведущие критики «Красной нови»: Лежнев, Горбов, наконец, сам Воронский. В заметке «О правде в искусстве» Шаламов пишет:
По сути дела, искусство для художника ставит необычайно ясную, необычайно простую задачу — писать правду, действительность, и овладеть всеми средствами изображения для того, чтобы лучше, вернее передать то самое, что называется жизнью и миром.
Тем самым всякая фальшивость, всякое подражание заранее обрекается на неуспех, ибо об этом будет судить потребитель, которому художник должен напомнить жизнь, но не литературу, т. е. уже открытое и увиденное кем-то раньше.
Нетребовательность читателя, когда тысячи романов принимаются за художественную литературу и таким именем называются тысячами критиков, возникает из малого общения с произведениями литературы действительной (или общения поверхностного, при котором нет глубокого увлечения вещью, а следовательно, и глубокой внутренней критики ее). [Там же, т. 5, с. 61]
Конечно, Шаламов идет дальше. В знаменитом эссе «О моей прозе» он пишет:
Из всего прошлого остается документ, но не просто документ, а документ эмоционально окрашенный, как «Колымские рассказы». Такая проза — единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя XX века.
Второе — здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности. Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохрани- лось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть — духовная и физическая? В этом смысле мои рассказы — своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из Мертвого дома», а с более очерченным авторским лицом — объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще — не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы — это моя душа, моя точка зрения, сугубо личная, то есть единствен- ная. Этой личностной точкой зрения держится не только художественная литература <...> ЛЕФовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить, «искать факты» в их газетном преображении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации [Там же, т. 6, с. 487, 489].
Удивительный синтез: Шаламов соединяет эстетические принципы «Перевала» и критиков «Красной нови» с находками «ЛЕФа», ОПОЯЗа и формалистов. В исследовании творчества Шаламова современные филологи в основном обращают внимание на ЛЕФовскую (авангардно-модернистскую) часть используемого им наследства [см., напр. Golden, 2004]. Но вторая — реалистическая — не менее значима, ибо Шаламов в условиях послесталинского культурного опустошения занимался воссозданием обеих традиций, и эта его деятельность еще найдет свое воплощение в русской культуре — и достойную научную интерпретацию.
Шаламов писал «Колымские рассказы», свои литературные манифесты и литературоведческие эссе в ситуации, когда многие эксперименты — и политические, и культурные — 1920-х годов были забыты. Он возвращается из лагерей — и борется за память о двадцатых годах. Даже в лагерной больнице он записывает стихи любимых им поэтов для своих друзей. Он борется за полноценную реабилитацию Воронского, первым опубликовав статью с рассказом о деятельности редактора «Красной нови». Он открыто выступает за публикацию Мандельштама. Работает в архиве, разыскивая материалы о революционерах-большевиках Федоре Раскольникове и Ларисе Рейснер. Он вообще ведет себя куда активнее, чем часто представляется его читателям и некоторым критикам: мрачный изможденный человек после ГУЛАГа, яростно пишущий рассказы в стол. Почему он столь активен? Дело ли только в том, что эти люди несправедливо забыты? Что было важно Шаламову в Мандельштаме? Что было важно в Воронском?
На самом деле Шаламов восстанавливает традицию. И культурную, и политическую, причем политическую — очень осторожно, через искусство, через литературу.
Шаламов писал Н. Я. Мандельштам: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити» [Шаламов, 2013, т. 6, с. 412]. Для этого, как считал Шаламов, нужен личный контакт, личная связь с людьми-носителями традиции, особенно с теми, кто олицетворял для него человеческий идеал:
Должны же быть такие люди,
Кому мы верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг. [Там же, т. 3, с. 383]
Знакомство В. Т. Шаламова с Н. Я. Мандельштам началось после известного вечера памяти Осипа Мандельштама на Мехмате МГУ 13 мая 1965 года. Там Шаламов читал рассказ «Шерри-бренди», в котором имя Мандельштама не называется, но погибший поэт легко узнается любым мало-мальски образованным читателем.
Если присмотреться — это странный рассказ. Мандельштам в «Шерри-бренди» думает о поэзии словами самого Шаламова, неоднократно затем повторенными им на страницах эссе, переписки, наконец, в его научной статье «Звуковой повтор — поиск смысла», опубликованной в 1976 году в сборнике «Семиотика и информатика». Сам факт, что масса важных для Шаламова соображений о поэзии в сжатом виде вошла в этот рассказ, не может не обратить на себя внимание. Более того, в черновиках рассказа есть стертая, но читаемая фраза, идущая после слов «Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве»: «Прекрасная, выразительная <нрзб> рифма — “умирал — минерал”. Глагол и существительное, стихотворный ключ русской речи» [РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 49].
У Мандельштама такой рифмы мне найти не удалось, но у самого Шаламова она встречается в двух стихотворениях: «Из дневника Ломоносова» (1954) и «Бирюза и жемчуг» (1959), написанных как раз в тот период, когда шла работа над рассказом «Шерри-бренди».
Конечно, эти совпадения, это приписывание Мандельштаму точки зрения Шаламова-поэта, как справедливо писала Л. Юргенсон, — ярчайший пример «двойничества», когда автор и герой практически сливаются: «Создание двойника — Мандельштама — позволяет Шаламову описать свою собственную смерть и в то же время воздвигнуть надгробный памятник поэту» [Юргенсон, 2005, с. 334]. Л. Юргенсон справедливо видит перекличку:
Шаламов побывал на Колыме, приобрел знания, отчуждающие от людей. За год до Мандельштама он побывал на той же пересылке, но уже узнав опыт Колымы, как посланник мертвых. Этот этап описан в рассказе «Тифозный карантин»; Мандельштам в «Шерри-Бренди» встречается с Шаламовым из «Тифозного карантина».
«Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать». («Шерри-Бренди»).
Этот человек и есть Шаламов, пришедший сюда из рассказа «Тифозный карантин» (где он носит фамилию Андреев), чтобы стать свидетелем собственной смерти [Там же, с. 334–335].
Поэт для Шаламова — обязательно еще и нравственный ориентир. Он согласен с тем, что «Поэт должен быть больше, чем поэт» [Шаламов, 2013, т. 5, с. 262]. Казалось бы, Мандельштам с его характером не подходит под эту формулу. Но Шаламов настаивает: «Есть мнение, что, близко соприкасаясь с живой жизнью, с бытом, Осип Мандельштам вел с ним борьбу с помощью книжного щита, щита, а не меча. Это не книжный щит, а щит культуры, да и не щит, а меч» [там же, т. 5, с. 209]. Если учесть это мнение, становится понятно, почему «Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму» [там же, т. 4, с. 553]. Мученическая гибель Мандельштама подчеркивает вывод Шаламова, согласно которому «стихи — это судьба, не ремесло». Стихи, культура именно поэтому и могут быть орудием общественной борьбы — благодаря их нравственному содержанию.
Судьба Мандельштама для Шаламова не менее важна, чем его стихи:
И у Пастернака, и у Цветаевой, и у Ахматовой были уступки, отступления под нажимом грубой силы. Были принесенные напрасные жертвы, только уни- жавшие этих поэтов. <...> У Мандельштама не было компромисса. <...> Вот эта-то бескомпромиссность, непримиримость, нетерпимость — во всем — от художественных принципов, поэтической практики до личного поведения — и есть тот мотив, который пронизывает каждую строчку и каждый день жизни Мандельштама[РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 12–13] [2].
Мандельштам у Шаламова — не просто поэт, но символ поэта, квинтэссенция поэта. Это символ единства культуры и борьбы за нее.
Шаламов не был историком, но свою версию русской истории написал, вернее, почти написал. Но в отличие от Солженицына, его работа не стала отказом от литературы, отвержением литературы — как «Красное колесо», к которому относятся по-разному в зависимости от идеологических предпочтений, но которое почти никто не в состоянии прочитать целиком.
В своем эссе «о новой прозе» Шаламов пишет: «Даже в познавательной части «Колымских рассказов» — новая запись русской истории, самых скрытых и страшных (страниц) — от Антонова до Савинкова — от “Эха в горах” до “Исландской саги”» [Шаламов, 2013, т. 6, с. 493][3].
Шаламов пишет русскую историю ХХ века через биографии тех, кого сталинизм пытался вычеркнуть из этой истории, о которых Шаламов мог свидетельствовать не просто как наблюдатель, рядовой участник событий, но и как один из обреченных на забвение. Сам этот факт давал его свидетельству — с точки зрения самого Шаламова — силу истины.
В этом контексте следует рассматривать попытки Шаламова создать художественно-документальные произведения, посвященные историческим деятелям: эсерке-максималистке Наталье Климовой[4] и известному большевику Федору Раскольникову [Соловьев, 2017].
Обращает на себя внимание особая интонация этих двух текстов, которую можно назвать агиографической. Она встречается у Шаламова не только в «Золотой медали» и «Раскольникове», но и в некоторых рассказах колымских циклов: «Последний бой майора Пугачева», «Житие инженера Кипреева». В последнем случае читателю о жанре текста автор сообщает в самом названии, что для Шаламова — редкий случай. Обычно в «Колымских рассказах» названия подчеркнуто делаются автором непрозрачными, весь смысл которых раскрывается только после прочтения новеллы целиком.
По словам Шаламова, такие биографии принципиально важны: «Эта история — не только позволит изучить эпоху (выделено мной. — С. С.) — надеть намордник на эпоху» [Шаламов, 2013, т. 6, с. 387].
«Колымские рассказы» в целом — не только и не столько свидетельство, не только гениальная проза о состоянии зачеловечности и пределах человечности как таковой. Это еще и обеспечение культурной связи. Опыт лагерей, по Шаламову, — целиком отрицательный. Но он был, а значит должен быть включен в культурную традицию и политику. Как момент истины, как лакмусовая бумажка. Но не для отказа от перемен, от революции, не ради апологии конца истории и «статичной вещности»[5]. Само написание «Колымских рассказов» становится актом сопротивления отчуждению и злу. Именно в таком контексте можно понять слова Шаламова: «Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок — не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе» [там же, т. 5, с. 271].
Сохранение целостности культуры, сопротивление тотальному отчуждению также с помощью литературного документа о воплощенном уничтожении человека, человечности и культуры — вот что отстаивает Шаламов в течение всей своей послелагерной биографии. В этом смысле прав Ален Бадью, когда констатирует:
Ведь он [террор] тоже — особым образом — наша история, поскольку речь идет о том, чтобы помыслить его и осуществить с ним разрыв. Шаламов не бросает нас, подведя вплотную к тому, относительно чего мы иногда предпочитаем притворяться, что это нас не тревожит. От нас больше, чем от кого бы то ни было, зависит, чтобы никогда не повторялся, чтобы в самих своих основах был искоренен террор, субъективную истину которого Шаламов выражает в прозрачной и по-братски открытой прозе [Бадью, 2005, с. 33–34].
Ален Бадью совершенно справедливо указывает, что проза Шаламова не просто ставит этические вопросы, но ставит этический вызов перед обществом — в несоизмеримо большей степени, чем проза Солженицына. Для Солженицына лагеря — это просто порождение коммунистического зла как такового, результат дьявольского искушения, которое должно быть преодолено и искуплено. Для Шаламова лагеря, Колыма, Освенцим и Хиросима — это уже неотделимая часть человеческой цивилизации. С ней приходится иметь дело вне зависимости от нашего желания. Приходится понимать, что эти трагедии — не только прошлое. И тут многие современные левые и консерваторы оказываются по одну сторону: им проще просто не думать о лагерях и массовых смертях.
Воронского, Мандельштама и Шаламова объединяет не только определенная общность судеб. Они не просто были писателями, творцами и жертвами «века-волкодава», вернее, сталинской карательной системы. Все трое были активными борцами против нее, причем как писатели в большей степени, чем подпольщики. Их объединяет также представление о цельности культуры, единстве литературного и культурного процесса и необходимости решения этических вопросов в художественной форме.
Само ощущение целостности живой культуры, борющейся, противоречивой, выбивающей за рамки канона, традиции, идеологии, — это именно то, что создает возможность для сопротивления отчуждению в повседневной жизни, для политической борьбы. Об этом, в частности, говорил Бродский в своей Нобелевской речи, хотя трудно найти поэта, более далекого от Шаламова и тем более Воронского, чем Бродский…
Новый социальный идеал, новая утопия, способная вдохновить трудящихся, эксплуатируемых на новый «штурм небес», не может не основываться на предшествующем культурном и историческом опыте. Она должна, как доказали еще греки, как понимал Маркс, объединять истину, добро и красоту. После катастроф ХХ века этическая задача крайне трудна: новое обоснование коллективной этики, этики сопротивления, наталкивается на многократно усилившееся обывательское «как бы не было бы хуже», «вот, в ХХ веке сколько крови пролили», «коммунизм и фашизм — одно и то же». В мою задачу не входит опровергать это. Замечу только, что тут на филистеров работает не только идеологический аппарат современного государства, — историки стряпают псевдоакадемические бестселлеры, вдохновленные такими же идеологическими штампами, — один за другим[6].
Для многих современных политиков, политических активистов разных идеологических направлений революционная традиция, равно как и попытка причислить к ней Шаламова, тем более Мандельштама — оксюморон. Левые, которые критикуют капиталистическую глобализацию, также не склонны основываться на традиции, особенно литературной. Но эта погруженность в настоящее создает ту самую «статичную вещность», о возникновении которой предупреждал в свое время К. Манхейм. Задолго до него это понимал Воронский: — он спорил с РАППовцами, в том числе защищая традицию, понимая, что без культурного багажа революция не просто не создаст нового искусства, но она не выстоит без обнажаемых искусством противоречий и нового социального идеала.
Осознание диалектической — именно диалектической — цельности лучших достижений культуры минувшего века — явно дело будущего. Многие левые — или те, кто так себя называют, — не воспринимают как свою культуру не только иллюзорно-эстетского Мандельштама, но и Шаламова (зачастую, но уже не так часто, как раньше, интерпретируя его как еще одного Солженицына), и даже Воронского. Проблема заключается в том, что без осознания ценности и противоречивости культурного наследия невозможно то, что является едва ли не самым слабым местом в современной левой мысли. С критикой капитализма у современных социалистов и коммунистов всё в порядке, с теорией куда хуже, но есть немало выдающихся авторов, кто достойно продолжает марксистскую экономическую традицию. А вот с обоснованием нового социального идеала, включающего свободу и социальное равенство, всё обстоит очень плохо. Социальный идеал — образ желаемого угнетенными будущего — проявляется прежде всего в культуре. Первые ростки нового социального идеала — это этическое и эстетическое недовольство существующим обществом, понимание его несправедливости у Данте и Брейгеля, у Бальзака и Достоевского. Опыт ХХ века показал, что были и выдающиеся достижения, и чудовищные провалы на пути преодоления социальной несправедливости и отчуждения. В XXI веке новый социальный идеал может возникнуть, проявить себя в искусстве только на основе этого опыта. И в нем должны неминуемо отразиться биографии и достижения в искусстве и Воронского, и Мандельштама, и Шаламова, чтобы новый идеал и новый путь к свободе имел меньше шансов быть повторением неудачи.
Оруэлл писал: «Все революции постигает неудача, но это не одна и та же неудача». На революции в искусстве это правило не распространяется. Общество — благодаря творцам — может пойти по пути создания новой̆ этики, чтобы наконец последовать за искусством.
doi:10.17323/2658-5413-2022-5-2-98-120
Список источников
Бадью А. Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий̆ трактат по метаполитике. Пер. с фр. Б. Скуратов, К. Голубович. М.: ΛΟΓΟΣ, 2005. 239 с.Белая Г. А. Дон-Кихоты революции: опыт побед и поражений. М.: РГГУ, 2004. 623 с.
Воронская Г. А. В стране воспоминаний. М.: РуПаб+, 2007. 269 с.
Воронский А. К. На новом пути // Воронский А. К. Страда. М.: Антиква, 2012. С. 63–79. Воронский А. К. Юла // Воронский А. К. Memento Vivere. М.: Издатель Мархотин П. Ю., 2016. С. 40–65.
Гаврилова А. П. «...Сыграл огромную роль в истории советской̆ литературы» // Отечественные архивы. 2013. No. 6. С. 84–90. URL: https://shalamov.ru/research/260/ (дата обращения: 05.05.2022).
Горбов Д. Поиски Галатеи. М.: Федерация, 1929. 297 с.
Колоницкий Б. И. #1917. 17 очерков по истории революции. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 144 с.
Магуайр Р. Красная новь. Советская литература в 1920-х гг. СПб.: Академический проект, 2004. 366 с. Мандельштам О. Нашедший подкову // Красная новь. 1923. Кн. 2. С. 135–136.
Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х гг.: Хрестоматия. М.: РГГУ, 2001. 455 с.
Соловьев С. М. «Надеть намордник на эпоху...» Варлам Шаламов как биограф // «Закон сопротивления распаду…» Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Сборник научных трудов / сост.: Лукаш Бабка, Сергей Соловьев, Валерий Есипов, Ян Махонин. Прага; Москва, 2017. С. 149–165.
Соловьев С. М. «Повесть наших отцов» — об одном замысле Варлама Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской исто- рии. М.: Литера, 2013. С. 209–219.
Шаламов В. Т. Собр. соч. в 6 т. + том 7, доп. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. 7 т.
Юргенсон Л. Г. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей / сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт; Издательство «Европа», 2005. С. 329–336.
Golden Nathaniel. Varlam Shalamov’s Kolyma Tales: A Formalist Analysis. Amsterdam; New York: Editions Rodopi, 2004. 193 p.
Архивы
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства;РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории.
Notes
- 1. Об истории этой публикации и текст самого очерка с отмеченными цензурными изъятиями см. [Гаврилова, 2013].
- 2. Полный текст этого выступления В. Т. Шаламова готовится к публикации.
- 3. «Исландская сага» — рассказ В. Т. Шаламова, оставшийся в набросках.
- 4. О замысле биографии Н. С. Климовой см. [Соловьев, 2013].
- 5. Слова К. Мангейма, писавшего, что «исчезновение утопии создаст статичную вещность».
- 6. Помимо всем известной «Черной книги коммунизма» обращу внимание на нашумевший бестселлер Юрия Слезкина «Дом на набережной», в котором доказывается абсурдная для историка-специалиста по российской истории первой трети ХХ века идея, согласно которой большевики были «тоталитарной сектой».
The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.