
Переписка с Пастернаком Б. Л.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Борис Леонидович.
Примите эти две книжки[1], которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.
Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович.
Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.
Арбат 6-32-50
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Дорогой Варлам Тихонович!
В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать.
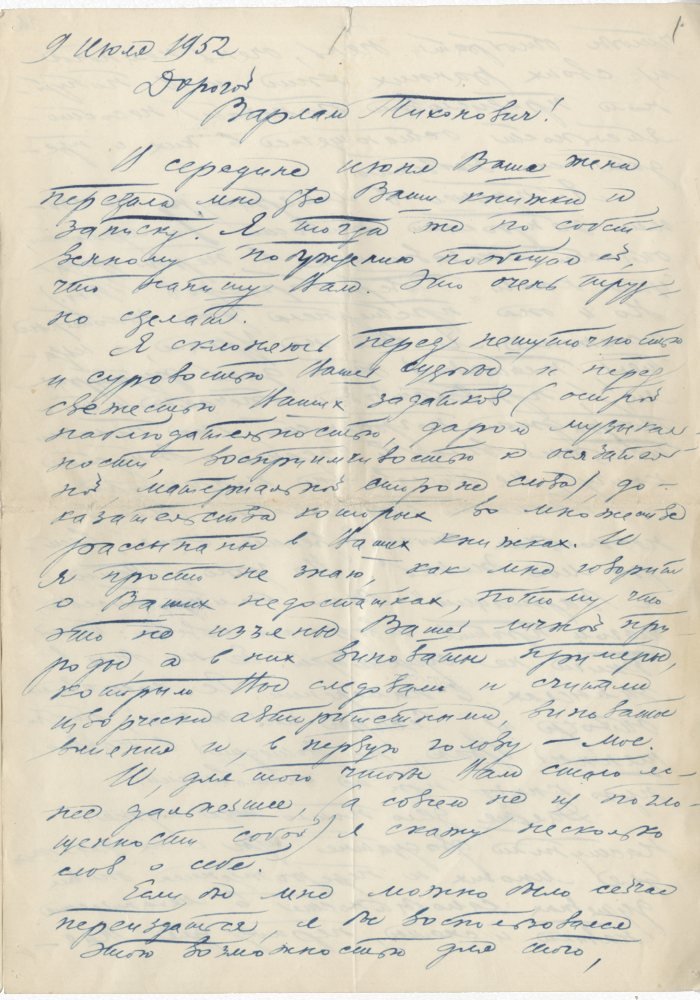
Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и в первую голову — мое.
И, для того чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.
Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.
Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.
Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.
Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского, еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, напр. Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды, я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.
Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского[2] и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.
Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, незаслуживающих упоминаний, потому что даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.
Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы не согласясь с ней, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности, ложно направленных толчков.
Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и чего доброго еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.
Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей, мысли в жизни, о совершенствовании какого-то, Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти предопределенного и в котором Вы считаете свое предназначение. Не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе яйца выеденного не стоят, — это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.
В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.
1) Удивительно как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.
2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, катаясь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б ветки сбросить тяжесть, какая им не по плечам. — Огонь перелетает птицей, как ветром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер, — Пузатых парусов. — Гравюру мороза в окне! — Ползет как кошка по карнизу — Изодранная в кровь заря. — В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. — Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала. — И ногти лиственниц натерты изумрудом. Я мясом с птицами делился[3]. — Деревьям ветви заплести.
3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, может быть, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы, заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.
а) Вот эти (на мой взгляд) срывы, (после хороших частей, строф и страниц) — Бродя в изорванных лаптях, Ты лыко ставила мне в строку. — Толок речную воду в ступе, В уступах каменных толок. — И зайцы в том краю не смели б показаться, куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. — Он фунта лиха знает цену. И за ценой не постоит. — Снег чувствует себя как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. — И он нас здесь интересует, как прошлогодний снег. — Вся белая от страха, Нитка чуть жива. — А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесцвечивает живую и ценную мысль.
в) Вот примеры, где по видимости такой же прием[4], но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту и перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом и утром на холодке кусочек сухого неба размачиваем в реке (очень хорошо). — Рукой отломим слезы, Такой УЖ тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — До свадьбы заживет. — И надоевшее таежное творение, небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье и т. д.
4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может Даться, Хотелось бы годок не знать радиостанций и автодорог. — 1де юности твоей условие, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда... — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала, И куражилась метель[5].
Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.
Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где... Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх, т. е. нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет). «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого» в «Космическом» все об Уране, «Ты верно снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.
Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерила.
Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззаконие, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должен был подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинять дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.
Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть, уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что
у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовско, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.
P.S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здравому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.
И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.
Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой, что потому так много и строго написал, что это большое, настоящее творчество, что это — «серьезный случай» в литературе, /приписка рукой Г.И. Гудзь/
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Глубокоуважаемая Галина Игнатьевна!
Эту записку пишу на случай, если при поездке своей в город не застану Вас дома ни звонком ни посещением.
Прочтите внимательно, что я пишу Вашему мужу. Я не мог написать ему ничего другого, потому что не нашел возможным отмахнуться от такого достойного человека пустой уклончивой похвалой и ничего не значащей благодарственной отпиской, а счел своим долгом говорить с ним, как с самим собой.
Но не огорчит ли его это письмо? Если и Вам это кажется, не пересылайте письма, а перескажите сами, в Вашей собственной передаче, то из его содержания, что Вам покажется нужным и существенным. Мне кажется, оно не содержит ничего, что было, бы неприятно Варламу Тихоновичу или могло огорчить его. Но, с другой стороны, то, что я прибавляю в конце письма о жене, совершенная правда.
Пробегите, пожалуйста, письмо тотчас же, как получите приложенную записку. В течение нескольких часов, что я пробуду в городе, я, может быть, дополнительно позвоню Вам, чтобы поговорить с Вами и узнать Ваш взгляд на этот счет.
Нужны ли Вам книжки Шаламова; или у Вас есть копии и они могут у меня остаться?
Всего лучшего
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним 1 1/2 тысячи километров в морозы свыше 50°, и только позавчера я вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, не сделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным, письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.
Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.
Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало и только десятая, может быть, часть показана Вам.
Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.
Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель — чушь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, слушая который, перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу. А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, не даром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится неважным, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, не достигнуто и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.
К тому же я верю давно в страшную силу искусства. Силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант[6], где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.
И как бы ни была грандиозна сила другого поэта — она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной — это впервые сказано, я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И более того: я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет рано или поздно.
Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам — почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать — то, что заставляет брать карандаш и бумагу — сильнее меня. Притом, я смею надеяться, что все, написанное мной, — меньше всего литература.
Я пишу и не вижу конца тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков кроме указанных Вами, но все же написанное мною — стихи и общение с жизнью на этой дороге — оправдано.
Вы говорите много верного, но кое в чем я не могу согласиться с Вами. И прежде всего — о зачеркивании прошлого, Ваших прошлых работ. Этот мотив переполняет Ваши последние сборники, и, стало быть, я знал это и раньше Вашего письма. Не чересчур ли жестоко тут отречение? Я понимаю, что строгий мастер растет и живет, отрицая и уничтожая самого себя, но я помню, знаю и другое. Ведь я знаю людей, которые жили, выжили благодаря Вашим стихам, благодаря тому ощущению мира, которое сообщалось Вашими стихами — именно теми, которые преданы сейчас сожжению. Думали ли Вы об этом когда-нибудь! О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были Ваши слова, Ваши рисунки и мысли? Эти стихи читались как молитвы. Не в том дело, что «ученики» брошены. Стихи-то ведь живут и без Вас. К тому же это вовсе и не ученики. Но была же в стихах этих такая жизнь и сила, которая, повторяю, людей сохранила людьми.
Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, Вы не правы — ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноте и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она — инструмент выбора, она — орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода — стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекать заранее часть невода. Добыча будет беднее, зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит, хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков.
Но, с другой стороны, составные рифмы казались мне инородным каким-то телом в стихе, фокусом. Глагольные рифмы тоже в отдельных случаях стих могут держать хорошо.
С письмом меня торопят — уезжает машина — здесь ведь все оказией. Потому простите меня за сбивчивость и торопливость.
Спасибо Вашей жене за теплый отзыв о моих записях. Она все же не права, ибо я ведь не ищу одобрений. Я знаю сам, что я — в воротах поэзии и как бы ни был труден этот решающий шаг — он будет сделан.
У меня немногое осталось. Когда-то было много планов и ощущение возможности кое-чего сделать, я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была.
Двадцатые годы я был в Москве юношей и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской. Ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сельвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом и на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации.
Впервые в Вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиций подлинной поэзии, осуждение по существу. «Во весь голос» в этом плане было только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации двадцатых годов, — Твардовский, Исаковский и Сурков. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом.
И вот тогда, в середине 20-х годов в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с Вашими стихами. Я не буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные Вами, как словесная игра. Они ощущаются Вами, в большинстве случаев, как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми — раз это понятно только для меня, — уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки. Чтоб стать книжкой над каждой строкой, надо еще много поработать. Я переписывал их для вас подряд и уже потом понял, что многих не включил вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой, куда денешься. Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее с каждым из них, потому что — разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство их — из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова на полюсе холода — письма жены, Ваше письмо и стихи. Ваши и цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»[7] — заполненные отзывы, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы.
Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе. Но мне кажется, я понял правду и душу поэзии и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил.
Я благодарю Вас также за постскриптум и за письмо моей жене. Кажется, большей нежности и деликатности не видел я в жизни. Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда как взыскательного художника. Берегите себя.
Передайте мой сердечный привет Вашей жене.
Поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравии.
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Дорогая Галина Игнатьевна.
Здешний мой адрес до 20-го марта следующий: Ст. Болшево, Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР «Сосновый бор», мне. Если будет что-нибудь от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись? Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно. Мне гораздо лучше, начал работать. Здесь очень нянчатся со всеми, и в частности со мной, но тут довольно шумно и я плохо сплю. От души Вам всего лучшего.
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Дорогая Галина Игнатьевна!
Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его определение так проницательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.
С тех пор все переменилось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном — хотя какую-нибудь часть того мира, хотя самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этою темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни).
Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.
И, знаете, отложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради скоро могут понадобиться.
Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ., на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкой лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в «Капитанской дочке».
Нынешнее трагическое событие[8] застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.
Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Вален. Павл. Малеевой и ее мужу.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович. Горячо благодарю Вас за сердечный интерес к моим скромным работам. И еще раз — за Ваше теплое письмо. Я отвечал на него второпях, стремясь поскорее известить Вас о получении письма. Стихи наступают на меня отовсюду, и не хватает времени, чтобы записать их, отделаться от всего, что кричит и шепчет вокруг меня. Еще года три раза мне было страшно — вдруг весь этот напор иссякнет, оборвется. Но я уже пережил состояние; когда боишься, ложась спать, что завтра проснешься и не сможешь написать ни строчки. Сейчас я этого не боюсь. Жена покажет Вам кое-что рядовое из тех почти двухсот новых стихотворений, которые написаны вчерне за последний год. Не откажите прочесть и ответить.
В прошлом письме я пытался рассказать, почему я стал писать стихи. Если это вообще можно объяснить. Нынче я хотел бы о другом. Много говорилось справедливых слов о том, что искусство нельзя создавать искусственно и торных путей не любит оно. Только говорилось это очень равнодушно. Что дорога подлинного стиха — не прямая и не торная, — это верно, и в трудных поисках истинных путей одни в бессилии бросают перья, а другие забывают, что такое искусство. (Только гений не разбирает, что такое торная и что такое не торная дорога.)
Мне кажется — одна из ошибок современной поэзии в том, что утеряно понимание главного, что поэзия должна говорить не людям, а человеку (Шекспир сейчас людям ничего не скажет, кроме как в плане историко-литературном, а человеку он вечно будет говорить очень много). Единение людей в стихах — это единство суждения обращенных поодиночке. Хорошее стихотворение, хороший поэт тот, который встречается с читателем один на один. Хорошее — это то, что читается при лампе и кладется на ночь под подушку.
Нет нужды говорить о том, что это достигается новизной, особенным видением мира. Подчас стихотворение — это палка слепого, которой он ощупывает мир. Общение поэта с читателем в стихотворении это вроде детской игры, когда ищешь спрятанное, а поэт приговаривает: «Тепло. Теплее. Холодно. Горячо!» Не новизна темы делает стихи, а новизна называния, ощущения. Пока будет существовать мир — предметов, ждущих своего имени, будет бесконечно много. В пыли под ногами предметов стиха хватит на жизнь любого. Природа и четыре времени года имеют огромный, бесконечный запас средств, с помощью которых осуществляется общение людей друг с другом в поэзии.
Все это имеет безусловную и вечно плодородную этическую почву. Корень поэзии — в этике, и мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе: настоящие, большие стихи могут написать только хорошие люди. Когда-то я читал вслух вечерами после трудового дня людям самых разнообразных знаний и профессий, людям, сошедшим с разных ступеней общественной лестницы, читал классиков и все то, что казалось мне в литературе хорошим. Читал, я помню. Толстого, Тургенева, Чехова, Шекспира, Достоевского, Гюго. Читал и другое и я удивлялся вначале, что какие-нибудь патентованные изустные романы — вечный спутник таежной жизни — вроде «Князя Вяземского», отступали, вызывали гораздо меньший интерес и волнение чем, напр., Достоевский и не с его «Записками» — это было бы понятней, а, скажем, с такой вещью, как «Село Степанчиково», и, думая об этих чтениях тогда же, — видел, что большое искусство действует на всех в одном и том же направлении, может быть, с неодинаковой силой понимания и чувствования, но в направлении одном и том же и с теми же самыми границами. И даже склонен я был считать эту всеобщность действия признаком, примером настоящего искусства. Мне не удалось проделать такие же опыты с живописью и музыкой, хотя бы, вероятно, получилось бы вроде того же. А вот со стихами было иначе. И все равно — Пушкин или Лермонтов, Анненский или Некрасов. А Блок совсем не вызывал отклика ни у кого. Этим для меня утвердилась еще одна особенность поэтического творчества — высшей ступени художественного слова. Вам это знакомо, конечно.
«За что же пьют? За четырех хозяек,
За цвет их глаз, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик,
И полубогом сделался поэт»[9].
Не в ясности ли тут дело? Или просто в той веревочке, на которой не хотел ходить Щедрин, гордившийся тем редким обстоятельством, что он — беллетрист не написал в жизни ни одной рифмованной строки. (Кстати, именно он наименее чувствует слово русской литературы.) Мне думается — ни в том и ни в другом. Яснее Пушкина, казалось бы, что может быть? Мне думается, что и ясность может быть не всегда, ибо мысль сложнее слова, а чувство сложней мысли. И что такое недомолвка, обмолвка, намек? Тот скачок, который пытается делать поэт от чувств к слову и приводит всегда к некоторому косноязычию поэзии.
Борис Леонидович, наверное, я тут понаписал такого, что Вам давно знакомо и надоело.
Никогда еще по таким вопросам — ненужным, кажется, но в высшей степени мучительным — не приходилось мне писать.
Будьте здоровы, здоровы, самое главное. Берегите себя. Я счастлив и рад до глубины души, что имею возможность писать человеку, стихи которого были душевными вехами в моем скромном пути. Не каждому выпадает такое счастье. Передайте мой горячий привет Вашей жене. Спасибо Вам за Ваше отношение ко мне.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Наши расстояния, измеряемые днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-олене-собачье-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолевается сюрпризно легко. Если первое Ваше письмо я получил через полгода после написания, то письмо жене попало в мои руки всего через 18 дней.
Мне очень совестно отнимать у Вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил Вам, не верил, что Ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами (лишь косвенно связанными со стихами), как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качества высочайшей человечности, давно мною ощущенные из Ваших стихов.
Вера в искренность, в критичность Вашего мнения, и вместе с тем вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий.
Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное, написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать.
Я плохо знаком, почти незнаком с литературной терминологией и зачастую сам для себя придумываю определения и без них потом не могу обойтись. Перед Вами заранее прошу прощения, если определение не представит для Вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом — просто, верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой о Ваших работах мне не очень понравилась. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить (в деталях) поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец может и завидовать, и поучиться, и понять «секреты» другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной — по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками, намеками, догадками, подчас несвязно выраженными, но, угаданное, оно понятно художнику и им объяснено.
В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко. Но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой[10], восхищении ее стихами (я, правда, кроме «Верст» знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений) — эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим, упущена или обойдена весьма характерная общность Вас и М. — ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку («Возьмем винтовки новые» — нельзя считать за песню) или объяснения не найдено. А объяснение этому есть (в природе дарования), почему Ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов, — не «музыкальны»? Штука в том, что их музыка — она есть, но она сложнее песенной музыки (кроме других качеств, затрудняющих переход в песню). Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора — но дать ему слова для романса или песни — это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами?
Потому, что Ваши стихи — это дневник человека. Все, все так:
«Опять Шопен не ищет выгод
Но, окрыляясь на лету,
Он сам прокладывает, выход
Из вероятья в правоту»[11].
«Мир, как дом, сняла, заселила
Корабли за собой сожгла»
и т. д. и т. п.
Я убежден, что Вы не вели и не ведете дневника. Стихи — Ваши книги — дневник Ваш.
Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Биллонов[12] — нет. Тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом. Ярлыков можно давать каких угодно — это так тем не менее.
Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия, — это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности — говорит человеку, а не людям, убеждает «глаз на глаз». Картины природы пишутся затем, что поэт думает, что, ощутив пейзаж так же как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати (назад на 20 лет), куда делся конец «Весной бездонною»? («о том ведь и веков рассказ» и т. д.)[13]. В однотомнике уже этого конца не было. И сам однотомник будто сейчас держу его в руках — изданный, как раскольничий «Часослов» с заставками, шрифтом, черной и красной краской, — оформление этой книги, качество оформления никем как-то не было даже замечены, а намеренность и существенность его — очевидны.
О творческом процессе. Поэта преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобящим и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения. И, едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает, поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки — а ощущение совершенно ясное, определенное и может быть проверено, возвращено повторением записанного.
Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я Вам уже писал. Попутно, одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может и в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово.
Большие поэты — Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак — делают это почти неощутимо и, наверное, не нарочито, доверяясь только уху.
«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит».
Или
«Люблю тебя, Петра созданье,
Люблю твой строгий, четкий вид,
Невы стенанья и рыданья,
Ее удары о гранит»
— стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему, а если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. «Петра творенье» по звуку превосходит, а созданье — точнее по смыслу. «Невы удары о гранит» лучше по смыслу, чем «береговой ее гранит» и т. д. и т. п. Примеры бесчисленны.
Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения — в этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок» Флобера — другой Аполлон, хотя и первый, поэтический Аполлон — тоже бог помарок.
Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущение, уже ушедшее в стихи.
Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах (в небольшом стихотворении), какая строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом.
Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме (ощущение сообщило уже ему интонацию), другим ритмом изложен быть не может, — он потеряет силу, потеряет «что-то» — то самое, что называется поэзией. А тема, сюжет, и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, натвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим это никогда не будет. Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк — разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам — Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, и стихи вспоминаются, перечитываются (если есть под рукой книга), и ощущение уже разряжено и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах — оно ищет своих слов и требует записи на бумагу. Писалось когда-то много о Ваших «приемах». Разные Тарасенковы[14] проделывали формальные анализы, копались в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. (Между прочим, занятно, что эти «работы» в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов — те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг — а совсем из другого литературного лагеря.)
Мне думается, что никакой «техники», никаких «приемов» у Вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое «техника» — так не понимаете этого ни Вы, ни любой большой художник.
— тут нет ничего от «техники».
Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, в острой душевной тревоге и в душевной честности. Попробуйте, напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать Вы не можете и лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фальши, лжи, кривизны души — все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве и оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с Вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уж не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева — горожанка, которая и природы-то никакой не видела, а только читала о ней. «Тютчевская гроза», «Пастернаковский орешник» — так хвалить таких поэтов— недорогая похвала.
Разве в «Цицероне» или в «Край ты наш многострадальный»[16] — пейзажи? Разве главное в «Zilencium» — картины природы? Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и Вы будете Пастернаком и без Урала.
Говорят, у Вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука (а где юмор у Блока?) и Ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно скрыта. Нет, Вы и романтическую иронию не жалуете (Вы и Гейне никогда не переводили). Вы просто настоящий живой хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал епитрахиль, когда садился писать «Столп и утверждающие истины»[17]. И я этому верю. И отношусь к этому с величайшим уважением. Письмо никак не придет к концу. О «Лейтенанте Шмидте» — тут Цветаева очень не права[18]. И здесь такая же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство — жизни.
О многом мне хотелось бы спросить у Вас: об Иннокентии Анненском. О всей этой линии русской поэзии. Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак в отличие от Пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое «понятность» и «непонятность» стихов, о внутренней связи «Высокой болезни» и «Гефсиманского сада», о Вашей переводческой работе. О «Фаусте», который Вы так любезно обещали дать прочесть моей жене. И о многом, многом другом.
Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если Вас заинтересуют они.
Желаю Вам здоровья, здоровья и творческих сил.
И душевного мира.
Привет Вашей жене.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а Ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывает Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно — то, чему я не находил ранее выхода и ответа.
Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное — Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и, может быть, наивным — но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок.
За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваше здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами. И все-таки пишу.
Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо Другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя.
Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал развертывать перед Вами в прошлых письмах.
Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием, даже такое, казалось бы, универсального значения слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает, как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.
Именно эти находки — теоремы и формулы — делают гениев и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира.
Есть другая поэзия — оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.
Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов.
Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) ею читают? Почему «Ромео и Джульетта», даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же ходят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в художественных галереях.
Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? (Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если Вы разрешите писать Вам — письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях, — это грустная шутка художника.)
Потому, что мир меняется невероятно медленно и, может быть, в основе своей не меняется вовсе.
И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Монны Лизы вечно, а ее глаза, лицо) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий.
Может быть, только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ромео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю Вахтанговскую, т. е. Театра им. Вахтангова, акимовскую интерпретацию «Гамлета»[19]. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.
Я могу привести Вам много, много таких примеров вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в 2 недели, погибнет в два спектакля.
«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века.
Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.
Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговею перед ней.
Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее? Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы. Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь Вся. И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя Жена. Эти семь—восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылал в письмах, но почта работает плохо, и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.
Привет Вашей жене.
Еще раз — желаю Вам счастья, здоровья и творчества.
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Дорогой Варлам Тихонович!
Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи, то вот они, их мне переписали. Я не проверяю их, только в одном месте заменил одно слово.
От души всего Вам лучшего. Ничего Вам не пишу, т. к. к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи.
В.Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Я прочел Ваш роман. Я не знаю, как мне писать. То, что пишется — это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких и смелых мечтах последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш не напечатанный, не оконченный роман, да еще полученный в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад затерянный в зиме, равнодушной ко всему, что ее окружает, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголочки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди полулюдей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.
Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите мою немоту. Ведь даже от встречи с городом после долгой разлуки можно плакать на подъезде вокзала. А тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным — по аналогии. И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение (а меня для нее — первое). Я ведь оставил ее полуторагодовалым ребенком, а сейчас ей 18 лет и она студентка 2-го курса. И, наконец, в эти же два дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо рассказывать и писать отдельно. Неправда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека?
Простите меня, что я пишу не о романе. Это ведь тоже, впрочем, о романе — это состояние, созданное чтением, это фразы, подсказанные Вашими героями — так что это, пожалуй, к месту.
Видите ли. Борис Леонидович, я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то восхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад (т. е. с год назад, если считать эти 17 лет не моей жизнью) печатал — рассказы плохие.
Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадемуазель Фифи», для чего там крупный и густой руанский дождь и т. д., а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя. Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствованных впечатлений, как будто слова, спасаясь от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, вырываются в давке и выбегают на бумагу.
Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто, тревожащее Вас, требует выхода на бумагу, требует записи и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, это в сущности своей то же самое, что стихи. Сильны идеи, требующие трибуны не стихотворной.
Ваш роман поднимает много вопросов — слишком много, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить, вольно или невольно. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений.
Я давно уж не читал на русском языке что-либо русского, соответствующего литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.
И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними, или их дополнить — я говорю с его героями, как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до «архитектуры» романа? Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как читатель — лицом к лицу с писательскими мыслями и чувствами — без романа, забывая о художественной ткани произведения.
Вот почему нет мне дела — роман ли «Доктор Живаго» или «Картины полувекового обихода» или еще что. Там очень много такого, высказанного Ларой, Веденяпиным, самим Живаго, о чем мне хочется думать, и все это живет во мне отдельно от романа, окруженное душевной тревогой, поднятой этими мыслями.
Обратили ли Вы внимание (конечно, да — Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет думающих героев? Мне кажется, это потому, что нет думающих авторов. Это в лучшем случае. В каверинском романе «Доктор Власенкова» также нет думающих героев. И это страшно. К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью.
Когда-то на Севере в удивительнейшем образом возникавших литературных разговорах — в моргах, в перевязочных, в уборных — спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет. Ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот Вы знаете, он с сильным налетом достоевщины (в хорошем смысле), талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, лаконичный, экономный и компактный. И что все к этому идет — романы пишутся рыхлые, их никто не может прочитать, кроме кормящихся возле этих романов критиков. Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный «бейсик инглиш», устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разодран изголодавшейся на казенных романах критикой в куски, но все разорванные части, как в русской сказке, срастутся и роман будет снова жить.
Мне думается, «Доктор Живаго» и есть такой роман.
Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее или это — факел, озаряющий лучшее из прошедшего.
По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», уже есть такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статеек о родине — вовсе не русский писатель. Проблемность — вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» и «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета; но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения, — жанр весьма нужный и уважаемый. Но причем тут русская литература?
Но уж лучше я буду по порядку, от страницы к странице, а то я так никогда не начну и не кончу.
Великолепен рыдающий малыш на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование. Сейчас отвыкли от такой прозы, — весомой, требующей внимания и силы — это я не о сцене с мальчиком, а обо всем романе.
Никем вслух не утверждается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, может быть, лучшими умами человечества и наверняка уже гениальнейшими художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью, выработан апостолами Христа и позднее такими писателями, как Иоанн Златоуст, умевшими управлять всеми тайнами человеческой души — тысячелетиями. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб, богослужений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие, росла из него, на него опиралась.
Толстой понимал хорошо универсализм Христа, стремясь со своей силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер? И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства? И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.
А как же быть мне, видавшему богослужения на чистом снегу без риз и епитрахилей, на память, среди пятисотлетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими с ветвей на таежное богослужение?
Об истории, как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти, — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образцом писателя, как такового, более совершенным, чем мог бы быть им Толстой, хотя и не таким великим, как Толстой, не таким всеобъемлющим.
Стр. 13. Голос умершей матери, слышимый мальчиком в голосах птиц и пчел, — это просто чудесно — весь этот кусок.
«Все движения на свете в отдельности были рассчитано трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни» и т. д. — это хорошо и верно.
Мальчик, приказывающий деревьям «Замри» — это очень верно. Правильно и то, что деревья, вероятно, замирают, как у Ники. Я в детстве пережил это желание. Только я боялся приказывать: думаю, прикажу и, если природа послушается, — сойду с ума.
Самоубийца в «пятичасовом скором» — компонент очень важный, предваряющий роль Комарове кого в Лариной жизни, бытовой штрих и символ.
Превосходна сцена с кувшинками, живущая отдельно от романа. Так кончается детство и начинается юность. Прекрасно рассказано. Жаль только, что и Ника и Надя почти не вернутся в роман.
Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет. Нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман встала подлинная героиня первой половины картин во всем своем пастернаковском обаянии, выросшая девочка из «Детства Люверс» чистая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, — Лара Гишар.
Очень Вам удался портрет ее, потрет чистоты, которую никакая грязь никаких Комаровских не очернит и не запачкает. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться.
Имя Вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Для меня оно звучит особенно и не только потому, что я очень люблю «Бесприданницу» — героиню этой удивительной пьесы, необычной для Островского. А еще и потому, что это имя женщины, в которую я романтически, издали, видев раза два в жизни на улице, не будучи знакомым, был влюблен в юности моей, сотни раз перечитывал книги, которые она написала, и все, что писалось о ней. И видел, как ее в гробу выносили из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер[20] я не имел сил идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее превосходными книгами, начисто изъятыми давно из библиотек, не ее биографией, блестящей и стремительной — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне противу всяких естественных законов.
Вы-то знали ее. Вы даже стихотворение о ней написали.
Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней, в ее портрете. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения чистоты и нежности. И даже в воспоминании о мерзком она «шагает словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила».
Брак ее с Павлом правдив, но грустен этот союз. Прекрасна Лариса, идущая по лесу.
Лара идет за деньгами к Комаровскому. Здесь чуть-чуть не мелькнула тень Эммы Бовари. Но я возвращаюсь к порядку замечаний — по страницам и похвалы Ларе — лучшему, по-моему, образу в романе, мне придется еще повторять много раз.
Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям.
Психологически правилен Тиверзин, дающий гудок к забастовке, подстегнутый личной обидой и собственной взвинченностью и верящий после многих лет, что это именно он открыл и начал забастовку, хотя все это иронически освещает социал-командира.
Митинг, как отдых уставших от хождения по улицам участников демонстрации, которые, отдохнув, выходят, не дослушав оратора — это, пожалуй, справедливо изображено, равно, как и уличная каша, стихийность, слепость демонстрации. С этим потрясающим вечерним солнцем, тычущим пальцами в красные флаги. Кстати: однажды в жизни я был в рядах разгоняемой лошадьми демонстрации. Тревожно сжимается сердце, тающие РЯДЫ впереди, внезапно возникающий резкий запах лошадиного пота — вот все, что осталось в памяти.
Неистовство чистоты (54) — это тоже очень хорошо.
Мне так много нравится мест в книге, что трудно назвать лучшее. Пожалуй, все же это кусок из дневника Веденяпина — о Риме и Христе. Я переписал себе этот чудесный кусок и его выучу. И вот еще что к этому: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется до боли, что если это пойдет так дальше — будет третье пришествие и начнется история нового, второго христианства. В самом христианстве все дело в пришествии, в явлении Бога в быт.
Беспощадно и сильно к мыслям о Христе подставлена страничка о Комаровском (60).
Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно. Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся — никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотеть понимать такое, стремиться к пониманию этого.
Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д. Ж.» — это спокойствие повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты и далеко от того, и другого. При обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс». Крик можно скрыть в иронию. Но Вы не пользуетесь иронией.
«Когда человека одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Илиады». Это и так, и не так. В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин и то истин до завтрашнего дня.
И Гёте, зная косность современности (а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад, и также действует на детей), вернулся к старинной сказке, чтобы с помощью ее атрибутов провозгласить то, что душе людей было ближе поэтически, чем если бы было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства и к тому же наука — не проповедь, искусство — проповедь.
62 стр. Комаровский должен вспоминать Пару не так поэтично; не грубо, конечно, но и не так. А, может быть, именно так и надо, ибо чистота и красота могут разбудить душу даже Комаровского.
64, 65, 66. — Все это правдиво — так это и есть.
67. Лара в церкви. Демина, мне кажется, тут напрасно, и об этом жалеет и сама Лара. В ее душевном состоянии она могла пойти в церковь лишь одна. Одиночество может быть нарушено потом, если это почему-либо надо.
68. «Завидная участь растоптанных. Им есть, что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение». — Очень хорошо, только для этого надо остаться живым, чтобы тебя не до смерти растоптали.
73. Нарочитое небрежение к топографии: «дом стоял на углу Сивцева-Вражка и другого переулка» — правильно для такого романа.
88. В морге I МГУ я когда-то был с целью пополнения «общеобразовательных» знаний. Конечно, у Вас здорово описан морг, но, мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда (и живое, и мертвое) и при делении также. И не только при делении. Ампутированная нога, например, безобразна и страшна. Сладковатый, совершенно специфический запах морга Вы как-то упустили.
Мне кажется, только дикая природа красива и красота ее делима. Камень который куда ни брось, находит себе быстро место, вправляется в пейзаж. У деревьев, у диких животных нет уродов. Уродства природы только в ее соприкосновении с человеком.
Трупы в мертвецкой, как скульптура, как актеры пантомимы, разыгрывающие последний акт великого спектакля. Может быть, потому и называется «Анатомический театр»?
89—92. Беседа Живаго — наследника мыслей Веденяпина — преемственность от XIX века — великого века Человечества. Физическое воскресение людей. Именно такого-то воскресения, кажется, и испугался когда-то Мальтус. «Вы уже воскресли, когда родились. Не глядите внутрь себя. Сознание — яд. Человек в других людях. Это и есть душа человека». Ну, я с этой докторской концепцией не согласен. Я видел хороших людей, которые были обижены и отвергнуты другими людьми, и в этих других людях ничего не осталось от тех, у которых была душа. Но разговор об этом уведет нас в дебри. А что роман трогает эти вопросы — это хорошо.
95. Евграф — что это такое? Зачем он. Нужен ли он композиционно?
106. Лед и холод улицы, и идущая Лара — превосходно. Тот же снег и лед у Юры.
Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский душистый платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых дел, которые в ином разрешении (смотри вальс в начале романа) приводят к выстрелу, и выстрел раздается.
114—118. Тоня. Обыкновенная женщина Тоня. Тоня, которой очень шел траур, достойная дочь Анны Ивановны с ее «Аскольдовой могилой»[21].
Много похвал заслуживает лес — жизнь, в котором заблудился мальчик Юра. Теперь Юра вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо «все вещи были словами его словаря».
122. Пошлые разговоры на похоронах — правдивая, но много раз бывшая в литературе сцена. Но «Мамочка», — прошептал он почти губами тех лет» — прелесть.
«Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь, то искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает», — как это чудесно верно. И как это мало понято. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни.
143. Страницы с описанием родов Тони — хороши, не хуже описания родов Китти. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке.
Смелый образ разрушенной баржи, высадившей в мир душу, - очень хорошо.
Свадебная ночь Паши, с тоской света, конец части со стираным бельем на могиле матери Юры. Несчастная Лара в этом «правдивом» браке с Антиповым, которого она гораздо сложнее, больше. Непонимание ею Паши тоже от ее высоты.
Прекрасны огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет. И, вообще, все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находятся новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вельяминовых[22]. Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов.
Хорошо и это: «фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку».
169. О царе и народе — тоже очень хорошо.
171—172. Конечно, верно, что христианство было предложением жизни Человеку, а не обществу. И еще раз с силой поставлен вопрос о еврействе — в котором ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого.
Часть V-я. Жена моя, которая читала роман гораздо раньше меня, писала мне: «Знаешь, люди романа очень живые — о них думаешь на службе, в трамвае». Люди живые и Лара, и Устинья, и даже Тиверзин. Вам, конечно, скажут, что драчун Тиверзин не годится в социал-командиры, скажут, что отдых — митинг во время демонстрации и Мелюзеевское хождение на митинги, как на посиделки — все это «принижение...» Но это ведь так и было. Это масса. И только ведь много лет после всему этому назад выдумана окраска порядка, придумана единая воля, якобы управлявшая событиями и людьми.
Сцена у комиссара Гинца — описание какой-то станковой картины на сюжеты Гражданской войны и революции, картины, которых есть великое множество. Как каталожная аннотация. Это— намеренно, наверное?
К стр. 13. От бездарно возвышенного словоговорения хочется только одиночества, хочется встречи с природой и ничего больше не хочется.
К стр. 21. «Со всей России сорвало крышу и мы со всем народом, очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Эта формула верная и точная.
Очень хорошо также об открывающемся богатстве личности. Так возникают народные вожди, так возникают Зыбушинские республики. Жизнь людей ярчеет.
Очень хорошо о второй революции — личной. И только Лариса, своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.
200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это роман о Ларисе.
Великолепна сцена с утюгами, одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его чувства, вырвавшегося объяснения с Ларисой. И очень хороши черты удалявшейся грозы.
Какую массу лиц природы увидели Вы, Борис Леонидович. Какое богатство в стихах, в прозе.
Прелестна, удивительна концовка главы с уверенностью в возвращение Ларисы, прелестен след — водяной знак женщины. Эта концовка — одно из лучших мест книги.
46 стр. Потрясающее явление глухонемого. Я этого глухонемого жду давно, но был ошеломлен таким разрешением задачи. И селезень, завернутый в печатное воззвание, птица, которая еще послужит для Тони, для Москвы.
«Тема искусства — это возвращение к себе». Это опять-таки удивительно верно.
55 стр. Живаго: «Я хочу сказать, что в жизни состоятельных была бездна лишнего. Лишняя мебель в доме, лишние тонкости чувств...» Парадоксы этого рода найдут опору в моих наблюдениях за людьми, которые на скверном северном пайке живут годами, выполняя тяжелую физическую работу, а при легкой даже благоденствуют — сколько же они ели лишнего в своей прошлой жизни? И т. д. и т .д.
Очень верно о семье, о мире в семье, о долге взрослого мужчины.
Превосходна гроза, которую проговорили, не видя и не слыша, на вечеринке. Еще лучше будет дальше водопад — лучше и важнее.
71 стр. — Очень важная для автора, но согласиться с ней я не могу, ибо того, что кажется захмелевшему Живаго — нет, а все гораздо проще, серьезней и кровавей.
Хорошо о торопливости высказывания любви, о материи, превратившейся в понятие, о романтических декретах горожан.
Чуть не каждая фраза романа — значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует резко и немедленно определить отношение к себе или в виде покорного удивления, или раздраженного спора.
73 стр. «Пигмей перед огромным будущим». Жертвенность и рядом с ней «игра в людей».
Кленовые листья-птицы — замечательно.
Н. Н. Веденяпин, много вложивший в приближение этого будущего, в Москве кажется каким-то приезжим, который может в любой момент ускочить в свои Альпы, на свои знакомые высоты.
Меня отец выводил на улицу в феврале, чтобы навсегда задел меня тяжелый след истории. В ноябре он меня никуда не водил.
Доктор Живаго устал от трехдневных разговоров со своим учителем Веденяпиным и другом Гордоном. Их время прошло. Время было — не время слов. Поэтому метель, телеграмма, мальчик в дохе, революция и бревно-топливо; малое, перед которым, в какие-то моменты жизни, отступает все большое — очень верно.
Снег, превращающийся в бурю, в метель вместе с ходом событий и смятением в душе Живаго. Это сходство, единство жизни природы и человека не только не скрывается, но заявляется прямо.
«Великое, являющееся неуместно и несвоевременно».
Мне кажется, дом представляется огромным оттого, что стоишь вблизи его, у его подошвы. Это — впечатление, вызванное ракурсом. Нигде нет больше оптических обманов, как в учреждениях общества.
83. Шкаф, выменянный за дрова, хотя можно было бы топить шкафом, но для этого надо иметь душу ученого, а не поэта.
104—105 стр. (Гл. 15). Темы стихов цикла «Гефсиманского сада» и решение: «Надо воскреснуть». Ах, как все это не просто, Борис Леонидович, и как хочется писать Вам отдельно по каждому из сотни важнейших вопросов, поставленных в этом романе, обсудить, продумать предложенные решения их.
Глава VII. Смятение продолжается. Пойманный год назад Притульев, мальчик Вася, всаженный под конвой родственниками, и деревня, деревня, которая в революции пыталась увидеть возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, лишь по необходимости верящей городу и мечтающей о собственной избяной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это не раскулачивание. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае и т. д. миссионеров новейшей формации — миссирнеров-врачей, миссионеров-инженеров, миссионеров-агрономов.
Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа. (Поразителен водопад, заглушающий ночное громыхание и галдеж людей.)
Я все поддакиваю и хватился сейчас: не обманываю ли я сам себя, не заставил ли роман меня думать, что я все это чувствовал раньше, что данное ощущение явилось только что, сказанное чужими словами. Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не таким полным и глубоким, не так ярко и законченно высказанным.
Прекрасно место о березовых почках, о новой жизни, неловко возникающей, неловко входящей в старую жизнь.
48 стр. Верное замечание о прямолинейности декретов лишь в момент создания их.
Доктор, подслушивающий мир. Он так хочет услышать что-то такое, что разъяснило бы ему жизнь. Потеряв надежду найти эти разъяснения у людей, он, когда остался один, протягивает руки к природе.
58 стр. Сцена с гимназистом, важная для характеристики Стрельникова, беспартийного фанатика революции, а главное, для философского каламбура о том, что «дело не в верности формам, а в освобождении от них». Этим замечанием мы вновь возвращаемся к понятию силы романа. Форма всегда нарочита и в душевных делах не должна быть видна.
62 стр. Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, а мятое — глаженым. Очень важно показано и подчеркнуто (чтоб читатель не забыл, не прошел мимо), что Галиулин, командующий белыми частями более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны замечания о беспринципности сердца, о даре нечаянности. Высший принцип морали это, вероятно, и есть эта беспринципность сердца.
Россия. Половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.
Теперь о том, что мучает меня, что так дисгармонично книге, что почему-то существует наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, покоренной и подчиненной настроениям героев, с единством нравственного и физического мира, блестящим образом достигнутого, осуществленного многократно в романе. О явлении грубом, резко кричащем, выпадающем из всего музыкального ключа романа. Я говорю о языке простого народа в Вашем романе. Именно о языке, а не психологической оправданности поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно, рабочий ли это, крестьянин ли или городская прислуга, Ваш народный язык — это лубок, не больше. Кроме того, у Вас он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения.
Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонационно за счет пересыпания речи матерной бранью, ну, а без нее язык не включает в себя никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных широко известных, больше отцовских примеров. Язык городской прислуги боек и в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок.
Чего стоит монолог Маркела из 3-й части с платейными антимониями, дамский блезир? Да и все, все — женщины и мужчины из народа говорят одинаково лубочно и не так как в жизни.
Если Анна Ивановна с ее «Аскольдовой могилой» очень хороша, то все, что относится к народной речи — не хорошо.
Роман во многом замечателен. Но в чем он поистине уникален для всей русской литературы — это в том самом качестве, которым дышит и «Детство Люверс», и несравненные Ваши стихи—в необычайной тонкости изображения природы, и не просто изображения природы, а того единства — простите, что я повторяюсь, — нравственного и физического мира, неповторимого уменья связать то и другое в одно, и не связать, а срастить так, что природа живет вместе и в тон душевным движениям героев.
Тонкость тут необходима затем, что ведь нет у Вас самодовлеющих описаний природы, вмонтированных куда-то более или менее подходяще. Нет, жизнь героев, сюжет романа развивается вместе с природой и природа — сама часть сюжета. Я не очень правильно пользуюсь терминологией, но Вы меня поймете.
Я начну выписывать — не все, конечно, а то это значило бы переписать добрую треть романа. Начну с муаровой капусты, с воздуха, дымящегося снегом, со стай воробьев, равномерно вылетающих из кустов и шумящих, как шумит вода.
Стебли хвоща, как посохи с египетским орнаментом. Солнце, по-вечернему застенчиво освещающее происходящее на насыпи.
Сухой морозный день со снежинками (46 стр.). Вечер был сух, как рисунок углем.
Всему вторящий, настороженный горный воздух. Крыша, перестукивающаяся с крышей, как весной. Выточенные, круглые звуки в морозное утро.
Совершенна и исключительна горящая свеча, подглядывающая за городом в протаявший лед в окне. Иней, бородатый, как плесень. Небо в спиртовом пламени горящих ярко звезд. Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп.
Пахло всеми цветами сразу, как будто земля днем лежала без памяти и теперь этими запахами приходила в сознание. Все кругом бродило, росло и т. д.
Удаляющаяся гроза. Гуси, белеющие под черным грозовым небом. Густая, как ночь, листва, мелко усыпанная восковыми звездочками мерцающих соцветий.
Буря при отъезде Живаго. Запах лип, опережающий поезд. Тень березовых ветвей, как женская шаль. Совершенная картина половодья, предваренного скрытой работой весны под снегом.
Все это, удесятеренное при желании, настолько замечательно, настолько связано и безукоризненно, что просто не понимаешь, как такое и столько может видеть человек.
Не знаю, как будет роман встречен официальной критикой. Да и не в этом дело. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман этот надолго, надолго будет большим событием. Здесь с силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь (и во многом исчерпывающе) сказано то, о чем человек не может не думать. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои нашего страшного времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе. Здесь набросана предчувствованная Гоголем картина «мира в дороге», российского половодья времен Гражданской войны, мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Весомый язык, «где каждая фраза сдвигает какие-то тяжести в мозгу, открывает какие-то новые двери, мимо которых мы проходили раньше, даже не зная, что это — двери и притом запертые двери».
Это — попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам, к ее генеральным идеям.
Это — ответ на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас, и за границей, вопросы, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.
Ваше посещение больного Пришвина[23] — чудесно. И так это и должно быть. Он хотел Вас видеть, он звал Вас, далекого в быту от него человека. Апостольское, святительское есть в жизни каждого большого поэта, и это ведь чувствуют люди, общающиеся с Вами, читающие Ваши стихи, и я считаю своим счастьем, что могу знать Вас, слушать Вас.
Еще несколько замечаний. Не сердитесь на меня за сумбурность письма.
Надя Кологривова, сверкнувшая так перед нами в сцене с кувшинками, теряется вовсе. Теряется Гордон, который по развязке мог быть одним из главных действующих лиц. Теряется Ника Дудоров. С обоими, Гордоном и Дудоровым, Вы разделались буквально одной фразой.
Очень хорошо и сильно, что Веденяпин — растриженный священник. Эти люди волновались сильно, думали самоотверженно и глубоко, а только большая страсть делает большого человека. Не ум, не воля.
Слабые места романа — забастовка, сцена в домкоме, рынок, ссора Тягуновой и Огрызковой.
Живее всего фигуры первого плана: Лара, Тоня, сам Живаго.
Роман не кончен. Зачем все же Евграф? Для выздоровления, как призрак Смерти? И не кажется ли Вам, что сумма страданий отдельных людей почему-то называется счастьем государства, общества? И чем эти страдания больше, тем счастье государства — больше?
Вот и все — неуклюже и наспех, но надо же когда-нибудь кончить. Я благодарю Вас, Борис Леонидович, за этот роман, за то большое, что идет с его чтением.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Горячо благодарю Вас за присланные стихи, за Ваше отношение ко мне, право, мной вовсе не заслуженное. Как раз эти стихи мне дороги по-особенному.
Письмо Ваше дошло до Озерков лишь вчера, 26 декабря.
Сердечно поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Хочу, чтобы Ваш новый год был творчески сильным, чтобы в новом году была открыта Вам дорога к свободному объединению с читателем. Чтобы Вы по-прежнему были совестью нашего времени, чтобы не пришлось снова писать Магдалин.
Чтобы Вы хранили верность своему великому искусству — с той же неподкупной чистотой, как Вы это делали всю жизнь.
Я сейчас весь в Вашем романе, в его мыслях и идеях. Письмо о нем получается большое, боюсь, что оно Вас утомит. Благодарю Вас за «Фауста» (жена мне писала) и за все, за все.
Желаю здоровья и счастья.
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Варламу Тихоновичу Шаламову.
Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954-го года, было и Ваше освобождение и приезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить дальше, и да будет эта книга (не содержанием, не духом своим, а просто, как предмет в пространстве и объект суеверия) талисманом Вам в постепенно облегчающейся Вашей судьбе и утверждающейся деятельности.
2 янв. 1954 г.
Москва[24].
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Благодарю за Вашу всегдашнюю заботу обо мне, за сердечное внимание, которое мне дороже всего на свете. Благодарю за чудесную надпись на «Фаусте», за слова, вновь и вновь утверждающие душевные мои стремления.
Вам не надо так говорить о моем письме по поводу «Доктора Живаго». Вряд ли оно было для Вас сколько-нибудь интересным и значимым. Мне же, конечно, не жаль никакого времени, жизни не жаль для того, чтобы иметь возможность говорить с Вами, писать Вам, проверять Ваши мысли на себе и в себе самом открывать какие-то новые уголки, которые были настолько затенены, что, думалось, их вовсе не существовало. От наших встреч я вырос, разбогател душевно и благодарю Бога за великое счастье, которое досталось мне в жизни — счастье личного общения с Вами.
Думается — схлынет, пройдет вся эта эпоха зарифмованного героического сервилизма, с полной утерей и перспективных оценок, и взгляда назад, и светлый ручей поэзии вновь покажет свою неиссякаемую силу со всей ее свежестью и чистотой. Грустно, конечно, что подлинные стихи для нынешней молодежи (осведомленность о них, вкус к ним) представляют сейчас, как никогда ранее какую-то (в лучшем случае) звездную туманность, новую галактику, скопление далеких миров, в котором под силу разобраться только старикам-астрономам. Одна из причин этого — воспитанное годами недоверие к поэзии, боязнь ее, подмены ее рифмованными «кантатами». Но все это удесятеряет требования к искусству, к его честным и искренним слугам. В сохранении верности поэзии трижды укрепить себя. Мне думается, никогда еще в истории русской поэзии не было такого трудного времени для искусства, когда смещены понятия, когда старые слова наполнены новым, иным, фальшивым и притом меняющимся смыслом, когда читатель (и поэт, как читатель) полностью дезориентирован этой фальшивостью понятий. Чрезвычайно трудно (и не по мотивам личной славы, гордости что ли) не сбиться с дороги.
Не у всякого сердце — надежный и верный компас. Даже т. н. «общение» поэта с широким читателем — тоже очень сложная штука. Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны — всех этих лжеистолкователей, лжеисследователей, лжепророков и вынужден через головы стражи, через ряды конвоя обращаться к верующей в него толпе, если и не полностью понимающей, то чувствующей его истину и доверяющей его чутью. Даже в ближних к конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя. Жить поэту очень трудно и только глубочайшая вера в справедливость своих идей, вера в свое искусство заставляет жить и работать, создавая новые вещи, год от году все большей силы, глубины и художественной убедительности. Он не только чувствует — он знает, что он необходим времени, что он не простой свидетель. Он — совесть времени, его неподкупный судья. И он с удовлетворением отмечает, что гений его все крепнет год от году, что голос его становится все проникновенней и чище, что смысл всех событий и идей становится все яснее и безогоровочней. Я отнюдь не смотрю пессимистически на будущее поэзии. Ее способность к бессмертию — бесспорна для меня. Бесспорна для меня и ее нерукотворность, что ли — что она живет и в поэте и как-то помимо поэта, как блоковская Прекрасная Дама, как гриновская Бегущая по волнам. Что ее нельзя отменить, растоптать, как нельзя и создать. Что мир предстает, как какой-то материал для ее детских игр, для ее роста и раздумий. Что она входит в людей случайно и вовсе не со всеми, в кого вошла, бывает до конца их дней. Что она порабощает человека. Что она отводит его в сторону от других людей. Что она спасает и легко может губить. Что она заставляет человека доверять только ей. И, наконец, что она обращается постоянно к единственно вечному в человеке, присущему ему — к его страданию. Страдание вечно само по себе, мир почти не меняется временем в основных своих чертах — в этом ведь и сущность бессмертия Шекспира.
Именно страдание человека есть коренной предмет искусства, есть сущность искусства, его неизбывная тема.
Опять, как всегда, письмо не находит конца, а я боюсь Вас. утомить вещами, которые мучают меня, а Вам-то давно и хорошо известны.
Я хочу просить Вас, Борис Леонидович, прочесть еще одну тетрадку стихов моих. Частью это — вовсе новые стихи, частью — стихи прошлого года, написанные после тех, что Вы видели в последний раз. И теперь, как и раньше и в последние годы, удержаться от записей этих нельзя. Жизнь как-то требует переварить ее и в стихах, как-то выбросить это беспокойство ощущений на бумагу, что понемногу и делается.
Вместе с этим письмом посылаю одно прошлогоднее, которое до Вас не дошло. Посылаю потому, что все, что есть в этом письме, представляется мне уже сказанным Вам и сказанным именно тогда, когда это письмо написано.
Привет Вашей жене.
Желаю счастья, творчества.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Живу и работаю все там же, с тем же отвращением к своей теперешней деятельности[25]. Счастливо еще вот что: как только выдается свободный час — мне работается легко, и разгона никакого не надо.
Закончил сейчас вчерне большое стихотворение (строк на 300) о расщеплении атома[26]. Конечно, не в плане Хиросимы, бомб, ракетных самолетов и пр. Но если каждый атом материи таит в себе взрывчатую силу, то этим обнаруживается вся глубокая, затаенная враждебность мира, только притворяющегося нежным и красивым, и все — сирень, цветы — не может не выглядеть теперь иначе. Нам остается только лунный свет, и мы вед сильнее ощущаем его давление, физическое давление. Это давление знакомо поэтам всех времен, но наука только теперь, опытами Лебедева[27], что ли, подтвердила давнее прозрение искусства. А, может быть, расщепление атома — это мщение природы людям — за ложь, обман и т. д. и т. д.
Называться стихотворение будет: «Атомная сюита» или «Сюита А», или что-либо в этом роде, сознательно нарочитое. Скоро я привезу ее в Москву и буду Вас очень просить прочесть ее.
Кроме того, написал несколько «личных», так сказать, стихотворений, все еще разжевывая тему возвращения.
Вам для просмотра готов целый сборник (около 100 стихотворений), называющийся «Сумка почтальона»[28]. И его тоже принесу, хотя мне и совестно отнимать Ваше время.
Жизнь грустна, и я не знаю, что бы делал, если бы не находил опоры в работе над стихами.
Вы как-то сказали на мое замечание (что я не могу работать над собственными стихами после чтения Ваших): «Так не читайте их». Но чем же жить тогда? Мой материал, то грустный, то зловещий, не дает мне ни минуты отдыха. Как движется «Д. Ж.»? Выходит ли Ваш однотомник? Написано ли стихотворение о снеге? Вам так и не удалось познакомить меня со Стефановичем[29], а я ждал для себя от этого знакомства много хорошего, душевного.
Желаю Вам добра, счастья.
Не забывайте меня.
Привет Вашей жене.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Вы меня вовсе забыли и бросили. Я хотел бы, если уж нельзя Вас видеть — передать Вам давно готовую книжку (не книжку, а просто несколько десятков стихотворений), надеясь, что Вы найдете время когда-нибудь их просмотреть. Там нет ничего, что могло бы удивить мир, но, быть может, кое в чем они будут для Вас интересны.
Хотел бы взять назад ту синенькую тетрадку, которую Вы читали.
Хотел бы видеть окончание романа и все стихи Ваши, написанные за последние 3 месяца. (Век, кажется, прошел.)
Если Вам не хочется почему-либо видеться со мной — прошу позвонить моей жене, и она зайдет к Вам.
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Дорогой мой Варлам Тихонович!
Ваша синяя тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторг. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца и перечту еще раз заново. Когда я принялся читать ее, я стал отчеркивать карандашом наиболее понравившееся мне и исчертил сплошь почти все страницы прочитанной половины. Наверное, я напишу Вам подробнее об этом собрании, когда толком перечту его. Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная, и Вам наверное странно, как это можно, не кривя душой, так долго воздерживаться и отказываться от того, что так близко и дорого. Но я так создан, что пока мучаюсь над чем-нибудь, что надо сделать и что еще не сделано, я вынужден отгораживаться от самого естественного и милого. Это еще продолжается. Потерпите, распространите свое всепрощение на более долгий срок.
Никто из читавших не говорил о незаконченности, о неокончательности отдельных стихотворений, никаких недостатков никто не находил, а я по-прежнему поразился богатством основного потока, питающего стихотворения, одухотворенностью наблюдений, чувств и мыслей, точностью слов и их тонкостью, и, относительной, по сравнению со всем этим, недостаточностью того, что превращает некоторую последовательность строф в отдельно стоящее стихотворение, в самостоятельную форму, в какое-то последнее слово по данному поводу. Напрасно я завязал вновь разговор об этом. Я не собирался писать Вам ничего серьезного, а перед отъездом на дачу хотел еще раз сказать Вам, что я люблю Вас, считаю, что Вы одарены настоящим талантом и верю в Вас.
Посылаю Вам в качестве подарка полученные из «Знамени» читательский отклик[30] на стихотворения в апрельском номере. Не сопровождаю комментарием, Вы слишком тонки, чтобы не оценить все прелести этих рассуждений. Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою. Откуда это, такое сильное в наше время поклонение типичности? Как не понимают, что типичность это утрата души и лица, гибель судьбы и имени.
Будьте здоровы, всего лучшего.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Только теперь добралось до меня Ваше, как всегда сердечное, чудесное письмо. В нем очень много душевного, дорогого, родного мне — всего, что меня бесконечно радует и укрепляет.
Для меня ведь ощущение самой жизни после личных встреч с Вами стало иным — и все мне теперь кажется, будто бы я знал Вас всегда, всю мою жизнь, что Вы всегда были со мной и вовсе неестественной кажется истина. И это как-то не потому, что Вы были со мной Вашими стихами и прежде. Это какое-то новое озарение.
Конечно, мне огорчительно, что целых полгода я Вас не видел. Тут нет никакой обиды, я все понимаю, я хорошо представляю болезненность от прикосновений всего внешнего, входящего в творчество. И, как бы ни было это внешнее дорого — оно мешает, оно слишком грубо просто потому, что оно — внешнее. Хирургия знает воспалительные процессы, когда нельзя подуть на рану — такая чувствуется боль. Понимание этого учит меня терпению. И само творчество — это ведь и есть лечение душевной раны.
То, что я ищу в жизни, то, что я в какой-то мере пытался выразить в стихах, обязывает меня беречь совесть. Я видел сразу — из Вашего первого письма, что это понято Вами и, боже мой, как я был счастлив. Мне очень лестно было прочесть (и ранее услышать переданные по телефону) Ваши общие замечания по поводу синей тетради, лестно было прочесть обещание подробного разбора. Но мне хотелось бы критики наистрожайшей.
Вопрос «печататься — не печататься» — для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу.
Но достаточно о себе. Я очень просил бы Вас, когда будет закончен роман — дать мне один экземпляр с машинки на вовсе. Не потому, что я не хочу ждать его напечатания или там рукопись «коллекционная» что ли — вовсе не поэтому (простите меня за эти оговорки — их, наверное, не следовало делать). Мне хочется кое о чем подумать с романом, кое о чем поговорить с собой. Каким будет «Д. Ж.» в печати — я не знаю. Из «Свидания» в «Знамени» отнята важнейшая концовка, да и «Хмель» в какой-то строке, мне кажется, изменен не к лучшему. Я боюсь, что кое-что ценное, важное для меня в «Д. Ж.» (а этим важным и ценным является почти весь роман в его первом варианте) — изменится или сгладится.
В «Знамени» нет «Рассвета», нет «Земли», нет «Сказки». Появление других (многих) вещей я и не ждал пока.
Я живу таким медведем — здесь очень плохая библиотека, даже журналов толстых свежих нет — что даже о Ваших стихах в апрельском номере «Зн.» я узнал лишь несколько дней назад в Твери от одного молодого студента, в котором есть кое-что от того, чем привлекательна юность — какое-то туманное, неосознанное стремление, собранность какая-то, ищущая приложения сила, готовность отдать всею себя без остатка и сразу чему-то большому и главному, послужить какому-то еще не найденному, но обязательно доброму богу.
И мне было как-то жаль, что вот, те чудесные стихи, которые Вы читали мне в январе, напечатаны в журнале, а я и т. д. и т. п. и не знаю, что Вы отдавали их в журнал. Смешное чувство, конечно. И радость, что они напечатаны.
Тираж номеру Вы сделали, вероятно, большой, четвертого № не найти в киосках. В каком-то журнале несколько лет назад были напечатаны Ваши стихи о зверинце, о Московском зоосаде, легкие такие строчки — развлекающегося собственными стихами и темой поэта. Куда они делись? Ни в каких сборниках их, мне кажется, не было. Жена не велела мне писать Вам длинные письма, а я не могу остановиться. Вы не написали в письме — ни о «Докторе Живаго», ни о новых стихах, ни о здоровье, почему Вы не хотите понять, что ведь мне это дороже, важнее всего, может быть; открытку какую-нибудь. А то ведь узнаешь все из десятых рук.
Письмо Ваше было лучшим подарком мне на день рождения и осветило особым светом этот день.
Будете ли Вы на съезде? Выступать, поди, не будете.
Этот ящик Пандоры, из которого дружно вылетели и стать? Померанцева, и «Времена года», и «Гости», и «Оттепель»[31] и т. д. - все это говорит не только о послушности литературного пера, не, и о совсем другом говорит настойчиво.
От подарка — читательского «отклика» на Ваши стихи я в полном восторге. Вот так и отучили людей от стихов. В молодости я начал было коллекционировать подобный материал, но скоро бросил, увидя, что нельзя объять необъятного. Эта рецензия мне еще сослужит службу и не только, как показатель «уровня». Достаточно представить страшное — литературные факультеты, часы русского языка в средних школах, доклады, лекции, курсы, литкружки, сессии Академии наук и писательские собрания — ведь где-то вот там рецензент формировал свои понятия и вкусы. О типичности — при личной встрече.
Желаю Вам здоровья, творчества, душевной силы.
Привет Вашей жене.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Осмелюсь напомнить Вам о своем существовании и просить, если позволит Ваше время, о личном свидании. И о всем обещанном, если Вы не забыли (синяя тетрадка). Вы, я убежден, и роман закончили, и стихов новых написали немало. А я в своей деревенской глуши не успеваю даже чтение наладить сколько-нибудь удовлетворительно; махнув рукой на методическое, систематическое, хочу хоть что-либо прочесть из недочитанного за эти 17 лет. Целая человеческая жизнь, прожитая за Яблоновым хребтом, оставила слишком мало времени на чтение. В новых стихах я все в старой теме, и вряд ли отпустит она меня скоро. Рассказы, которые начал писать, достаются мне с большим трудом — там ведь ход совсем другой.
Желаю Вам счастья, творчества.
Вызовите меня, и я приеду.
Можно звонить (Г—6—32—50, Маше) или письмом — только адрес мой теперь другой — ст. Решетникове Окт. ж. д., пос. Туркмен, п/о до востребования.
Или на Чистый переулок.
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Дорогой мой Варлам Тихонович!
Никогда Вас не забываю. Ничем не могу Вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приблизительности я дописал его еще в ноябре прошлого года. Но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели.
Еще недавно я не мог нахвалиться своим самочувствием, трудолюбием, настроением. Сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, и отвечаю Вам.
Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее.
Я сам желал встреч с Вами и легко назначал их Вам, когда мог сойтись с Вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тону, погрязаю в начатом, неконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опускаются. И не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг.
Я живу на даче, отделанной по-зимнему, со всеми удобствами, наподобие дворца, и живу непозволительно и незаслуженно, до бесстыдства роскошно. Я тут буду зимовать. Я Вас непременно вызову к себе. Вы, я знаю, думаете, что я Вас обманываю. Увидите.
Все-таки случай со «Знаменем» был коротким просветом. Можно было временно надеяться, обольщаться не на свой собственный счет, — на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этой возможности. Не оценил.
Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумать. Стихов новых не писал и не пробовал. Их по плану до окончания прозы и не полагалось.
Поклон Галине Игнатьевне. Еще раз: не сердитесь на меня.
Пишите, если захотите и понадобится, на городской адрес. Оттуда почту доставляют раз в неделю.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Сердечно и горячо поздравляю Вас с Новым годом. Ведь будет же день, когда время вспомнит, чем являются Ваши стихи для него; поймет, что Ваши работы — это и есть то, чем может гордиться страна; поймет, что только выстраданное, искреннее, отметающее всю и всяческую фальшь, достойно называться искусством. Желаю Вам счастья, здоровья, творческих успехов, спокойствия — как знать, может быть, этот год, так мало обещающий поначалу, и откроет Вам свободную и широкую дорогу на страницы журналов, к читателю, стосковавшемуся по Вашим стихам, Вашим словам. Вся штука в том, что дело поэта, его жизненная дорога — это не профессия и не специальность. Это совсем совсем другое. Жизнь во имя настоящего, подлинного, так нужного людям — разве это не гордая судьба?
Примите же вместе с Зинаидой Николаевной наши сердечные новогодние поздравления и приветы — мои и Г. И.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Кажется, вечность прошла с того времени, как получил последнее Ваше письмо. Некому сообщить хотя бы о Вашем здоровье — ни о чем больше.
Мне было легче жить, зная что-либо о Вас. Сейчас — труднее, когда столько месяцев не знаешь ничего.
Уважение и доверие к Вам, глубочайшее желание добра и счастья, беспокойство за Ваше здоровье — вот с этим и написано это маленькое письмо.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Спасибо Вам за телефонный звонок, за Ваш сердечный разговор. Бесконечно рад, что Вы в бодром здравии и «форме». Меня так тревожило Ваше молчание.
Счастлив слышать о переиздании Ваших стихов и еще более— об окончании романа.
Горячий привет 3. Н.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
По многим причинам хотел бы Вас видеть. Главных три:
1) целых полтора года мы не встречались, и порой думается, видел ли я Вас вообще. Для меня слишком большое значение имели те немногие встречи с Вами, чтобы я мог к ним относиться равнодушно. Выполнение принятых серьезных решений откладывается и откладывается до встречи с Вами. Кроме того, мне хотелось бы все, написанное мной, отдать Вам.
2) Я по-прежнему твердо уверен, что русская литература, русская поэзия очнется от колдовского гипноза и новые вещи Ваши займут в сердцах всех грамотных людей то первое и огромное место, которое они занимают сейчас в сердцах немногих, имевших счастье прочесть их в рукописях. Я хотел бы видеть Ваши новые работы — и окончание романа и стихи.
3) Я хотел бы просить Вас почитать и то новое, что написано мной за это время. Из стихов, кажется, есть кое-что путное, что должно Вам понравиться. Прозы пока показывать Вам не буду.
Если у Вас есть и желание и возможность повидаться со мной хотя бы в июне и если здоровье Ваше позволяет, то прошу назначить любой день и час и я приеду. Лучше, конечно, в субботу или воскресенье, но и в другие дни я смогу выбраться. Меня отпустят на сутки — только мне надо за неделю знать от этом.
Если почему-либо нельзя, то прошу тоже известить, не удерживаясь соображениями вежливости и деликатности.
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Дорогой Варлам Тихонович!
Дайте мне еще месяц отсрочки, родной мой. Когда я летом говорил Вашей жене или Вам писал, что роман окончен, речь шла о необработанном, но сюжетно завершенном пересказе содержания. Какая работа еще предстояла потом. А тут еще МХАТ затесался с просьбой перевести Шиллерову «Марию Стюарт», на что ушло полтора месяца.
В январе, если я, бог даст, доживу и если вторая книга в окончательной редакции будет к тому времени перепечатана на машинке, я сам навяжу Вам ее, мне надо, чтобы Вы прочли ее. Вот Вы меня разругаете!!!
В промежутке я еще раз напишу Вам, я это ясно предвижу и знаю, а Вы не пишете мне, чтобы не конфузить меня.
Ничего не изменилось. То есть изменилось колоссально много: я окончил роман, исполнил долг, завещанный от бога, но кругом ничего не изменилось. Я здоров и счастлив в своем замкнутом кругу, когда же делаются учащающиеся попытки вытащить меня из этого одиночества, это всякий раз разочаровывающий удар для меня, настолько я в своей тиши забываю, до какой степени люди могут быть чужими и ненужными, всего лишившись, выродившись и обо всем позабыв.
От души желаю всего лучшего Вам и Вашей жене.
Забудьте обо мне до нового напоминания.
Если до нового года не напишу, то с наступающим Новым годом.
10 дек. 1955 г.
Переделкино.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Благодарю за письмо Ваше.
Поздравляю Вас и 3. Н. с Новым годом и от всего сердца желаю счастья и здоровья.
Поздравляю с окончанием романа, верю в Ваш интерес к моему скромному мнению о нем и радуюсь этой вере.
Как я завидую Вашей творческой силе, душе, умеющей не уступить своих внутренних побед и более того — вновь и вновь
утверждать себя с возрастающей силой, двигаясь дальше и выше.
Мое восхищение, мое уважение — бесконечны.
Жена моя присоединяет свои поздравления, пожелания, приветы.
Б.Л. Пастернак — В. Т. Шаламову
Дорогой друг мой!
Спасибо за скорый ответ. Страшно второпях: мне пришла безумная мысль послать Вам конец романа на спешное прочтение, до отдачи в дальнейшую переписку, недели на полторы, на два, до первых чисел января. Как только у Вас освободятся обе тетради, доставьте их для передачи мне на городскую квартиру. Если никого там не будет, в 5-м подъезде Лаврушинского дома дежурит лифтером Мария Эдуардовна Киреева, отдайте пакет ей, для передачи мне в собственные руки, когда я приеду в город. Киреева проживает у нас.
Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум трем словам все угадаю.
Но вот условие. Если Вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе, и Вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся Вам родными в нем и понравятся.
Я совершенно был согласен с Вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляют лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться.
Дорогой, дорогой мой! То что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу как все, что мне нельзя, что я не вправе.
Сейчас большой поворот в сторону «левого искусства», «опальных имен» и пр. Конечно, я не составляю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может, и только в том различие, в каком виде ее подают, горячею или холодною, с молоком или маслом. Того, что можно думать совсем о другом и совсем по-другому, нет и в допущении. Конечно, я от всего отказываюсь и еще более одинок чем прежде. Пожалейте меня. Прочтите, прочтите роман. Неважно, что Вы забыли предшествующее. Это несущественно.
Привет Галине Игнатьевне.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Благодарю за чудесный Новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока Вы есть, — простите уж мне эту сентиментальность.
Теперь — к делу. Лучшее во второй книге «Д. Ж.» это, бесспорно — суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью — это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде всего это — суждения самого Юрия Живаго. Но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рупор. Голосом автора говорят все герои — ягоды, и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых, в таких непривычно-верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет — не дождется честного слова о себе. Целые главы: «Вары-кино», «Против дома с фигурами», «Рябина в сахаре», у Ларисы у гроба — очень, очень хороши. Суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно — т. е. понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. — Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны оглядываясь — из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными.
Все, что Живаго успел сказать — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало, по сравнению с тем, что он мог бы сказать.
В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и у белогвардейца и многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.
Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части — на великой высоте.
Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листы в солнечных лучах, скрывающих человека — все, все.
Пейзаж Толстого — безразличен к герою, описание его самодовлеюще; репейник в «Хаджи Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения» это — символы или своеобразные эпиграфы, а не ткань вещи.
У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства, как некого самостоятельного начала, сходящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии, как едином Поэте. Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).
Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж — высшая, подчеркивающая внутренний мир героя — эмоциональное постижение этого внутреннего мира.
О героях. Доктор Живаго, по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт; его житейское. Каждый платит как бы свой долг, род штрафа, за то, что человек не удержал в себе того, что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятов, и Стрельников и Ливерий и конечно и в первую очередь и это совершенно естественно — женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому то и третья жена — Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и — нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины — показана очень хорошо. О Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе — под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше, — не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто — горька судьба. Но, верно, так и надо.
Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время,
страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, который он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации.
Что Лариса не уйдет от его судьбы. Что «пустое счастье ста»— это и есть залог счастья общественного. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все, скопленное Ларисой и Юрием, — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей трудной дороге, может быть, сизифовой дороге, ползти шаг за шагом, отвоевывая самое важное, что было добыто его дедами и утеряно его отцами. Как умирает Живаго, теряет силы, сберегая на самом донышке сердца самое последнее, самое дорогое и как это кое-что сохранено, как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь — и как он обманывается снова и снова умирает.
Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно — так оно и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.
Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовиться к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да наверно, так это и есть.
«Лубок» ощутим почему-то меньше во 2-й книге, хотя Вы и предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вакх не портит дела.
Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения». Например, о подготовке героизма, проявляемого в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь на знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь — одна. Оттого и самоубийц в молодом возрасте — больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода — аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что, как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!) 2 командира с вынутыми револьверами) приезжают представители политотдела, Смерш, полка, роты — человек 8 в общей сложности. (Космодемьянская и Матросов — это истерия, аффект. Психологический мотив Орлецовой желание утвердить себя, «доказать» свой разрыв с прошлым — возможно, так это трагичней и грустней.)
О физическом труде. Я «в полном согласии с классиком марксизма» утверждаю, что физический труд — проклятие человечества и ничего не вижу привлекательного в усталости от физической работы. Эта усталость мешает думать, мешает жить, отбрасывает в ненужное прожитый день. Поэтизация физического труда — это, кстати, конечно, другое и рассчитана она не на людей, которые обречены им заниматься.
О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело — красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь. Это — будущие кадры уголовщины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой беломорской «перековки» и кончая «друзьями народа» на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить «врагов народа». И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это — люди, недостойные имени человека, и им нет места на земле.
Ужасна и верна история Тани-бельевщицы. Увы, ничего наследственность в таком деле не дает (т. е. никогда ни скажется, если не будет благоприятных условий). Таких детей я знаю много — напр. лагерные дети, родившиеся от арестантов, — это большая и грустная тема.
Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название Гл. управления. Прямоугольник арестантов с лицами наружу — не бывает так. Это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Перекличек там действительно много — раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме. Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались главным образом участники Кронштадского мятежа (четные №, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта).
В период 1924—1929 г. был 1 лагерь Соловецкий, т. н. Услон с отделениями на островах, в Кеми, на Ухта-Печоре г. на Урале (Вишера, где теперь г. Красновишерск). Затем вошли во вкус и с 1929 г. (после известной расстрельной комиссии из Москвы) передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг (Москва—Волга), где в одном только лагере (в Дмитлаге) было свыше 800.00 чел. Потом лагерям не стало счета: Севлаг, Севвостлаг, Сиблаг, Бамлаг, Тайшетлаг, Иркутлаг и т. д. и т. п. Засеяно было густо.
Белая, чуть синеватая мгла зимней 60°-й ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле, бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм.
Беглец, которого поймали в тайге и застрелили, «оперативники» отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно. Рассказывает плотник, работавший в женском лагере: «За хлеб, конечно. Там, В.Т., было правило — пока я имею удовольствие — она должна «пайку» проглотить, съесть. Чего не доест — отбираю обратно. Я, В.Т. с утра пайку кину в снег, заморожу, суну в пазуху и иду. Не может угрызть — так на трех хватает одной «пайки».
Свитер шерстяной, домашний чей-то лежит на лавке и шевелится — так много в нем вшей.
Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жестяные №№ (в масть бубнового туза). Конвой, собаки во множестве, через каждые 10 минут — Ло-о-жись! Лежали подолгу, в снегу, не подымая голов, ожидая команды.
Кто поднимет 10 пудов — тот морально, именно морально, нравственней, ценней, выше других — он достоин уважения начальства и общества. Кто не может поднять — недостоин, обречен. И побои, побои — конвоя, старост, поваров, парикмахеров, воров.
Пьяный начальник на именинах хвалится силой — отрывает голову у живого петуха. (Там все начальство держит по 50—100 кур, яйцо 120 руб. десяток — подспорье солидное.)
Состояние истощения, когда несколько раз задень человек возвращается в жизнь и уходит в смерть.
Умирающему в больнице говорит сердобольный врач: — «Закажи, что ты хочешь». — «Галушки», — плача говорит больной.
У кого-то видели листок бумаги в руках — наверное, следователь выдал для доносов.
Шестнадцатичасовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату, — сесть и лечь нельзя. Тебя застрелят сразу.
Лошади ржут, они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени.
И возращение в лагерь, в т. н. «зону», где на обязательной арке над воротами по фронтону выведена предписанная из приказа надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».
Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам и лошадь тащит их по дороге за 2—3 километра.
Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?
Все это — случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается жить без мяса, без сахару, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатанный, уже дементивный ум хватается за то, чтобы «спасать жизнь» за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений, создавший ее в одиночку и сразу. Паек 7 «категорий» (так и напечатано на карточке «категория» такая-то) в зависимости от процента выработки. Поощрения — разрешение ходить за проволоку на работу без конвоя, написать письмо, получить лучшую работу, перевестись в другой лагерь, выписать пачку махорки и килограмм хлеба — и обратная система штрафов, начиная, от голодного питания и кончая дополнительным сроком наказания в подземных тюрьмах. Пугающие штрафы и манящие поощрения — зачеты рабочих дней. На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтоб Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отметном, чем окрашен почти 20-летний период — пятилеток больших строек «дерзаний и достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов — людей, жизнь которых беспрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он — человек.
Вот и письмо мое неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие.
И еще в двух поступках я должен покаяться перед Вами. Я получил роман 1 января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на 2 недели. Второй — не удержался и послал Вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтоб они были в Вас. Просто, чтоб были у Вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Названия приблизительные, это сборнички, а не книги. Тематически стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку — налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить.
Еще раз — искренне благодарю Вас за роман, которому нет цены, за все, что Вы в нем сказали.
Сердечный привет Зинаиде Николаевне.
Когда-то давно Вы получили мои письма с заклеенными клеем конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку — что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не сознавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольц у меня сидела Ахматова). Так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не терял. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня.
Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости.
Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбию, что ли, не просто «честь», не только «признание», «рукоположение». Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из загаданного» — это та самая сказка, которая, как ей и положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя, как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок.
У меня не было в жизни так называемых «удач», мое счастье, если и приходило, то приходило по другим дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отношениях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других.
Обещаний и зароков в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться, самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. Двадцать лет жизни моей отдал я Северу, годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. О всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя — а это все-таки бывало — я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я — счастлив сейчас.
Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно. И вот, по тем письмам, которые я получаю с севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем нейтральной, что меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие.
Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятном и человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. Но вовсе не у всех поэтов находил я то, что считал главным в поэзии. Мне казалось, что историческое развитие поэзии шло следующим путем. Стихи, конечно, родились из песни. Но, отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя (мне кажется пустячным значение фольклора для творчества большого поэта и со светлой легендой об Арине Родионовне давно пора кончать), обогащаясь не только за счет соседних искусств и науки, а исследуя жизнь, прежде и раньше всего стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Да, по сути дела, с песней-то эти силы имеют очень мало общего. Стихотворная форма в своем развитии показала возможности особенные, оказалась незримо шире и глубже любого другого искусства — музыки, живописи, скульптуры.
Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы, хотя бы (не говоря уже о собственно философии) эти стихотворные размышления не используют исключительно арсенал философии (как это было в ритмизованном трактате Лукреция Кара, например)[32]. Но самую природу свою звуковую и свое ритменное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью.
Не развлекательная балалайщина, не балагурство, не дидактика гражданской поэзии, а только размышления специфически-стихотворного порядка утверждают высокую поэзию. Рифма, как поисковый инструмент только один из сотен примеров использования специфики стиха для искания истины. Любой ассонанс, любой звуковой подбор служит той же цели, если он не хочет обратиться в погремушку, где нарочитость уничтожает стихотворение.
Только в этом настроении, думается, лежит сегодня путь, ведущий поэзию к новым высотам. Ее развитие безгранично, потому что поэзия, прежде всего личная, индивидуальна и только тогда она поэзия. Специфика (кроме прочего) заключается в том, что в этом размышлении нет никакого угнетения смыслом эмоции. Нет никакой иссушающей рассудочности. Поэзия просто должна помнить простую истину, что чувства богаче слов и мыслей и именно поэзии дано показать нечто большее, чем может сделать логика, ограниченная правилами использования слова. Логика знать не знает силы интонации, не понимает, что такое поэтический напор, лирический поток.
Содержание стихотворения отнюдь не исчерпывается его логической убедительностью, его философской новизной и к ней вовсе нарочито не стремится. Эта убедительность — только попутное завоевание.
Я не хочу, конечно, сказать, что «размышление» исключает все остальное в стихах. Но остальное — второстепенность и на этих путях победы и открытия поэзии не могут быть столь важны людям в их непосредственном реальном влиянии.
Этот элемент (размышлений) есть, конечно, в творчестве каждого большого поэта. Он силен в Державине, Пушкине, а Лермонтов даже начинает эту важнейшую линию русской поэзии, вершинами которой (по хронологии) являются три поэта — Баратынский, Тютчев и Пастернак.
Я не знаю языков, но по переводам вижу, что и работы Рильке и Гете того же самого ряда, утверждающего главное в поэзии.
Горестно думать, что именно эта сторона стихотворчества (важнейшая, выводящая поэзию далеко за границы возможностей всех других искусств) находилась так много лет и сейчас находится в совершенном пренебрежении. Если нынешние отцы отечества хотят успехов в русской поэзии, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть поэзии ее серьезность. Я знаю, Вам не покажутся наивными и смешными все эти рассуждения. Да я и не хотел другого языка, чтоб говорить о самом главном в жизни.
Еще раз — благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках — если бог даст силы и время.
Сердечный мой привет.
Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне.
В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович.
Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.
Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени. Что никакой соблазн, очередная приманка не обманет Вас[33].
Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.
Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвения всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что — имеет же право на настоящее искусство на настоящих писателей.
Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том — что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустое, пигмейское дело. Вы — честь времени. Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.
Я благословляю Вас. Я горжусь прямотой Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить Маммоне лишь чуть-чуть покривив душой. Но Вы не захотели этого сделать.
Да благословит Вас бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения.
Переписка В.Т. Шаламова с Б.Л. Пастернаком началась в 1952 г. В 1951 году он освободился из лагеря, однако выехать на Большую землю ему не удалось. Он работал фельдшером в маленьком поселке Якутии, близ аэропорта Оймякон. Кругом была тайга, снега, мороз, лагерные бараки. Писать прозу или стихи было занятием подозрительным. Однако он отправил две тетрадки своих стихов высшему поэтическому авторитету — Б.Л. Пастернаку: их захватила с собой уезжавшая в отпуск врач Елена Александровна Мамучашвили. Жена Шаламова Галина Игнатьевна Гудзь с помощью Наталии Александровны Кастальской и В.П. Малеевой, знакомой Пастернака, передала эти тетради Пастернаку. Впоследствии некоторые из этих стихов в переработанном виде вошли в «Колымские тетради» — сборник стихов Шаламова 1937—1956 гг.
Переписка охватывает, пожалуй, самые драматические годы жизни поэтов: Пастернак работает над романом «Доктор Живаго» и переживает бурю в связи с его публикацией за рубежом, Шаламов буквально воскресает из мертвых, со страстью пишет дни и ночи, пишет стихи и рассказы, словно беря реванш за долгие годы бесправия и молчания.
Переписка прервалась из-за ссоры Шаламова с О.В. Ивинской, которая имела большое влияние на Пастернака, но об этом — в переписке Шаламова и О. Ивинской.
Примечания
- 1. Воспоминания Е.А. Мамучашвили «В больнице для заключенных» см. «Шаламовский сборник», вып. 2, Вологда, 1997.
- 2. Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, критик, переводчик, его творчество было связующим звеном между символизмом и акмеизмом.
- 3. Цитируемые Б. Пастернаком строки стихов Шаламова большей частью остались в записях или существенно переработаны автором.
Шаламов, очень строго ценивший свои стихи, говорил об этих тетрадях: «Стихов там еще не было, но они появились там же, на Колыме, «Камея», например». Шаламов пишет в комментариях: «Стихотворение («Живого сердца голос властный...» написано в 1950 году на ручье Дусканья, энергично переделывалось мной в 1954 году, но, как всегда, из переделки ничего не вышло» (Собр. соч., т. 3, М., 1998, с. 459). - 4. Шаламов к фольклорным формам, мифам, пословицам, поговоркам относился особо: для него они были закодированной информацией высокой плотности, вечными моделями отношения человека и мира, человека к человеку. Что-то близкое этому суждению было в мыслях П.А. Флоренского, с трудами которого Шаламов был хорошо знаком («Столп и утверждение истины. От православной теодицеи».). Упоминаются стихи «Я жив не единым хлебом...» (Собр. соч., т. 3, М., 1998, стр. 265), «Бог был еще ребенком и украдкой...» (там же, стр. 102), «Картограф», там же, стр. 318 и др.
- 5. Пастернак отмечает не лучшие стихи Шаламова, возможно, он поручил кому-либо «подобрать примеры». В «Колымские тетради» не включены: «Где юности твоей условья...», «Свадьба колдуна». С изменениями включены стихи: «Реквием» («Сестре Маше»), «Жил был» («Платье короля»), «Пред нами русская телега...», «Еду» («Поездка») и др.
- 6. Леонардо да Винчи «Джоконда» (ок. 1503 г.), Гойя Франсиско Хосе де, портреты — «Семья короля Карла IV», «Игра в жмурки» (1791 — 1800).
- 7. Пастернак Б.Л. «Земной простор», М., 1945
- 8. Смерть И.В. Сталина 5 марта 1953 г.
- 9. Пастернак Б.Л., «Спекторский», «Стихотворения и поэмы». Библиотека поэта, М.—Л., 1965, стр. 313.
«За что же пьют? За четырех хозяек,
За их глаза, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.
- 10. Цветаева М.И. «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак». Соч., т. 2. М., 1980, стр. 399—423.
- 11. «Опять Шопен не ищет выгод...», Б. Пастернак, «Второе рождение», 1932, Библиотека поэта, 1965, стр. 366, «Мир, как дом, сняла, заселила...», там же, «Город», стр. 216.
- 12. Вийон (Виллон) Франсуа (ок. 1431 — после 1463) — поэт, свободный от влияния средневекового аскетизма, вольнодумец.
- 13. ведь и веков рассказ...»
- 14. Тарасенков Анатолий Кузмич (1909—1956) — критик, литературовед, в 1952 году вышла его книга «О советской литературе» в изд. «Советский писатель».
- 15. Б. Пастернак
Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.
Библиотека поэта, М.—Л., 1965, стр. 556. - 16.
Тютчев Ф.И. неточно цитируется.
«Цицерон»
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.
Тютчев Ф.И. «Литературные памятники», «Лирика», т. 1, с. 36, 161 - 17. Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — ученый, философ, его труд «Столп и утверждение истины» (М., 1914)
- 18. М.И. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала: «Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихии плюс пятую — лирику. И он дал их так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом». (Цветаева М.И., Соч., т. 2, М., 1980, стр. 454.
- 19. Спектакль «Гамлет» Театра им. Евг. Вахтангова (1932) был первой режиссерской работой Н.П. Акимова и был решен в вульгарно-социологической трактовке — стержнем спектакля была борьба за власть. Роль Гамлета сыграл характерный актер А.И. Горюнов.
- 20. Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — политический деятель, публицист, драматург, поэтесса.
- 21. Аскольдова могила. Повесть Загоскина М.Н. о времени Владимира I (1835 г.).
- 22. Воронцов-Вельяминов Борис Александрович (1904—1994) — популяризатор астрономии, автор книг «Мир звезд». М., 1952. «Очерки истории астрономии в СССР». М., 1964; «Очерки о Вселенной», М., 1964; 1980 и др.
- 23. Тяжело больной М.М. Пришвин (1873—1954) попросил Б. Пастернака навестить его: «Как же, думаю, умру и не увижу Вас».
- 24. Дарственная надпись Б. Пастернака на книге «Фауст» И.-С. Гете.
- 25. С 29 ноября 1953 по 12 июля 1954 г. В. Т. Шаламов работал в Озерецко-Неплюевском стройуправлении товароведом, а затем мастером по заготовке местных материалов.
- 26. «Атомная поэма» вошла в «Колымские тетради» Шаламова
- 27. Лебедев Александр Александрович (1893— 1969) — физик, под его руководством создан первый в СССР электронный микроскоп для съемки быстро протекающих процессов.
- 28. «Сумка почтальона» — вторая книга стихов из «Колымских тетрадей» В. Шаламова.
- 29. Стефанович Николай Владимирович (1911/12—1979) — поэт, его высоко ценил Б.Л. Пастернак.
- 30. Читательский отклик на стихи из романа, опубл. в «Знамени», 1954, № 4, содержал такой вывод: «По-моему, это не та лирика, тов. Пастернак, которую ждет от своих поэтов советский читатель...» Стихи произвели на читателя «дурное впечатление своей сыростью, грубой неотесанностью, попиранием смысла».
- 31. Имеется в виду статья В. Померанцева «Об искренности в литературе»(«Новый мир», 1953, № 12), роман В. Пановой «Времена года» и повесть И. Эренбурга «Оттепель», пьеса Л. Зорина «Гости».
После публикации статей В. Померанцева, Ф. Абрамова А.Т. Твардовский был освобожден от должности главного редактора журнала. Произведения В. Пановой, Л. Зорина, И. Эренбурга получили резко отрицательные отзывы критики.
II съезд писателей состоялся в декабре 1954 г.
С. Боровиков. «Н.М.», № 11, стр. 167—173: Пишет о крайней серости съезда «О речи Шолохова: «Как ни странно, а может быть, и вовсе не странно, лишь Шолохов (во многом подтолкнутый речью Овечкина) позволил себе критику не писательских, а государственных порядков.
Первоначально он охарактеризовал современную литературу как «серый поток»... прошелся по своим недругам — Эренбургу и Симонову — затем Шолохов обрушатся на «систему присуждения литературных премий» - 32. Тит Лукреций Кар — римский поэт и философ, I в. до н. э. Его философская поэма «О природе вещей».
- 33. С весны 1956 г. Б. Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго» «Литературной Москвой», «Новым миром» (подробнее см. «Новый мир», 1988, № 6, стр. 245-248).
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.
