
Шаламов на испанском
С 2008 года в Испании выходит шеститомник «Колымских рассказов» Варлама Шаламова в переводе Рикардо сан Висенте. Пресса откликнулась на это событие серией литературных обзоров, достаточно обстоятельно знакомя испанского читателя с подробностями непростой судьбы и творчества Шаламова.
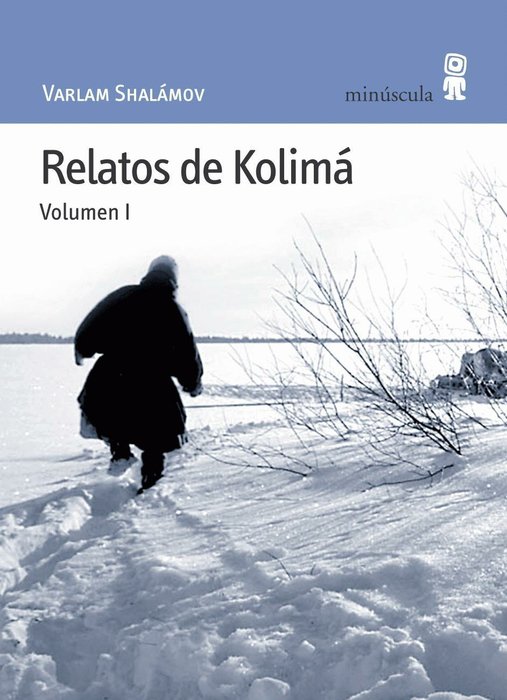
«Гениальность Шаламова как писателя видна читателю с первой же строчки любого из его рассказов, – утверждает переводчик шеститомника. – Многие советские писатели разделили нелегкую судьбу своих сограждан, осужденных, прошедших лагеря или погибших в них. Однако Шаламов стоит особняком. Во-первых, потому что выжил, во-вторых, потому что не поддался и не спасал шкуру ценой предательства солагерников, в-третьих, потому что смог описать прежитое и разделенное с миллионами таких же заключенных, не сумевших избежать физической или моральной гибели, причем описать с большим художественным мастерством.
Малый резонанс шаламовских произведений при жизни объясняется прежде всего успехом солженицынского “Архипелага ГУЛАГ”, который исчерпывал желание (а иногда и способность) читателя погружаться дальше в гулаговские ужасы. “Архипелаг” отодвинул на второй план остальные произведения той же тематики. Успех Солженицына и бледность Шаламова на его фоне объясняется разницей в видении мира, отраженной в произведениях обоих писателей. За исключением уверенности в том, что лагерный опыт должен получить огласку, их ничто не роднит.
Солженицын пишет в стиле русской классики, используя текст как платформу для выведения морали, противопоставляя христианские ценности дьявольскому коммунистическому кредо, предает анафеме правительство собственной страны и раскрывает глаза на коммунистическую угрозу. Шаламов же называет себя наследником русского модернизма, задолго до знакомства с Сент-Экзюпери и Хэмингуеем ставит перед собой те же задачи, что и они. Каждый рассказ Шаламова – это попытка описать то, для чего не существует никаких слов в языке. Каждый рассказ – это крик, частица души, обращенная в живую силу, в удар, направленный пока неизвестно на кого.
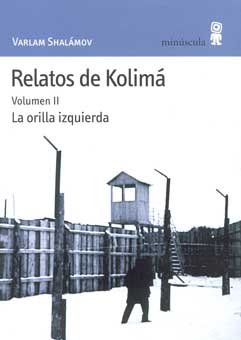
Но главное, что отличает Шаламова от остальных писателей лагерной тематики, - это отсутствие жалости, нежелание даже в малейшей степени смягчать свои рассказы. Возможно именно противоречие, конфликт между убеждением (шаламовским), что о лагерях невозможно, нельзя рассказать, и неистребимым стремлением выплеснуть это все, и создает уникальную шаламовскую манеру повествования, придает ей художественную силу. Шаламов суров и безжалостен к самому себе, к идее человека, и скептически относится к человеческим возможностям».
Во многом вторят Рикардо сан Висенте и остальные рецензии, при этом большинство предваряет оценку художественных особенностей шаламовской прозы подчеркиванием суровости колымской природы и невыносимости лагерных условий. Повторяющиеся из статьи в статью «белый ад», «ледяное чистилище» превращаются в штампы.
«В чеховской манере – короткая драма, посвященная какому-то одному происшествию, объективное повествование – Шаламов создает 103 миниатюры, описывающие монотонно и без прикрас морозы, от которых волосы примерзают к нарам, цингу, изматывающий труд, недоедание и голод, самоубийства и членовредительство, атмосферу насилия и постепенное душевное опустошение».
«Шаламов выстраивает с природой отношения на равных, в результате создавая прозу настолько же лишенную искусственности, как тайга и тундра крайнего севера, не уступающую при этом чеховской в богатстве языка и остроте тематики».
«И делает он это сухими, короткими фразами, жгучими, как пятидесятиградусный мороз. Последователь лаконичного чеховского стиля и бабелевского реализма, Шаламов способен с поразительной точностью передать и ужас расстрела, и смерть от истощения, и очаровать поэтичным описанием таежного дерева».
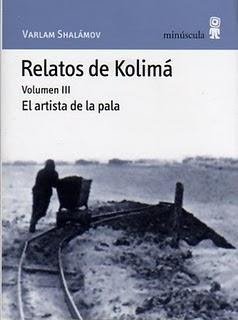
«Несмотря на цензуру, которая годами не давала Шаламову опубликовать его труд, он все же открыл нам бесконечные укрытые снегом просторы Восточной Сибири, где даже воздух, кажется, смерзся».
«Своим человеческим и писательским долгом он считал засвидетельствовать зверства сталинского режима – приговоры, пытки и расстрелы, с одной стороны, а с другой – отмирание чувств у заключенных, утрату человеческого достоинства, медленный, незаметный для самого человека тлен. Он пишет о том, как человека покидает воля, как заключенные перестают что-либо понимать, как – от голода, недосыпа, холода, тяжкого труда – не остается сил на чувства и ощущения».
«Если в первом томе “Колымских рассказов” он преодолевает свои муки, сливаясь с природным циклом других таежных форм жизни, то во втором томе он не дает читателю даже вздохнуть. Каждый рассказ – как удар под дых, ужасают не сами события и поступки, сколько привычность, монотонность, обыденность этого кошмара.
Это дантов ад, в котором не бывает передышек и перерывов. И весь его кошмар, каким бы невозможным это ни казалось, растет и растет, словно снежный ком».
«Весь СССР словно превращен жестокой бесчеловечной системой в белое чистилище».
«Автор “Колымских рассказов” своим массивом художественных и поэтических трудов, а также собственной нелегкой судьбой рисует бескрайний черно-белый пейзаж (белый от снега, черный от ужаса), который представляет Сибирь для русских».
«“Колымские рассказы” делят мир на лагерный “остров” со своими порядками и нормами, отсеченный от остальной страны, “материка”, непреодолимым барьером холода и голода».
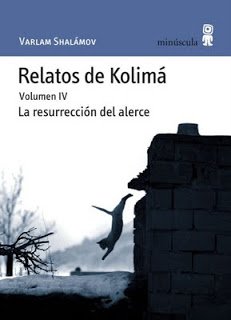
Среди упомянутых в рецензиях причин попадания Шаламова в ряды заключенных чаще встречается ленинское «завещание» и гораздо реже - названный «русским классиком» Бунин и «антиреволюционная троцкистская деятельность».
«Казалось бы, от такого ярого антисоветчика следует ожидать повышенной политизированности произведений, - говорится в рецензии, где перечислены все три обвинения и участие в праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. – Однако Шаламов сосредоточивается на быте, на условиях лагерного существования и сплетает биографию ГУЛАГа из лиц и предметов. Единственное упоминание о Сталине встречается в “Заговоре юристов”».
Большинство рецензий относит «Колымские рассказы» к жанру лагерной прозы, сравнивая или ставя Шаламова в один ряд с Солженицыным и Примо Леви, вероятно, лучше знакомых испанскому читателю.
«Солженицын раскрывает цель сталинских лагерей – продлить мучения заключенных и заодно получить рабскую силу. Он рассказывает о попытках побега, о бунтах заключенных, о конце ГУЛАГа, о завесе молчания, покрывшей лагеря в годы после смерти Сталина.
Шаламов берет более лиричный тон, однако его рассказы вызывают у читателя не меньшее потрясение. Он описывает психологию заключенного, борьбу за лишний кусок хлеба, утрату надежды, исчезновение таких ценностей, как дружба, достоинство, щедрость, любовь и сострадание в среде настолько враждебной, что даже инстинкт самосохранения иногда отступает перед неодолимой суицидальной тягой. Заключенные, среди которых есть и осужденные на 25 лет, кажутся живыми мертвецами, у которых уже не чувствуется души».
«В “Архипелаге” Солженицын, моралист уровня Достоевского, взывает к Богу и уверен, что страданиями человек очищается. Шаламов же, отсидевший более долгий и тяжелый срок, чем нобелевский лауреат, не надеется ни на что, живет сегодняшним днем, полагаясь лишь на инстинкт самосохранения. Возможно, разница в том, что, выражаясь словами Николая Досталя, режиссера “Завещания Ленина”, “Солженицын вступил лишь на первый круг сталинского ада, тогда как Шаламов спустился на самое дно”».
«Шаламову, пережившему этот беспрецедентный ужас, достаточно было бы изложить творившееся там в документальной хронике – как поступил Солженицын. Однако Шаламов предпочел более художественный вариант. Поэтому “Колымские рассказы” – это не просто отражение лагерного кошмара, но и уникальные упражнения в стилистике, превратившиеся в величайший образец русской (точнее, советской) прозы XX века наряду с произведениями Бабеля и Платонова».
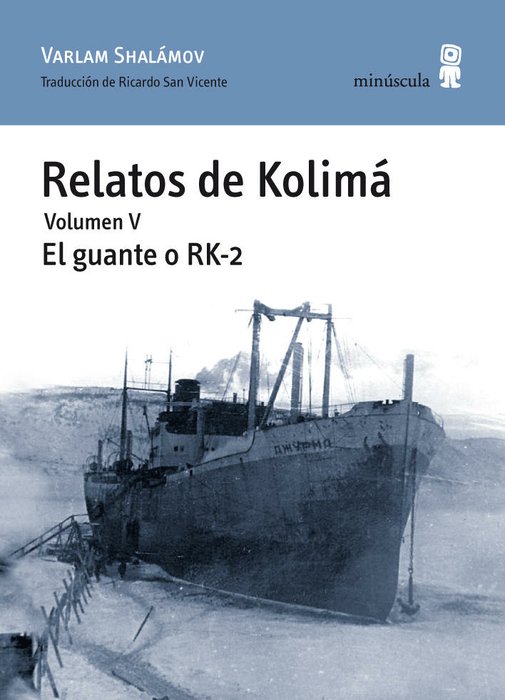
«Переписка Шаламова с Солженицыным и Надеждой Мандельштам передает застойную, удушливую атмосферу 60-х. Начали назревать разногласия между Шаламовым и Солженицыным, в 1966 наступил конец приятельским отношения, сложились две совершенно разные формы прозы, два разных взгляда на лагеря. У Солженицына – преобладающая защита религии, у Шаламова – защита поэтического слога».
При этом, по мнению Виктора Андреско из газеты El Pais (2011), «если бы можно было выбрать одного писателя, наиболее полно передавшего всю жестокость сталинской эпохи, этим писателем был бы Шаламов».
Многие рецензенты видят ценность шаламовской прозы в том, что Шаламову удалось, по сути, совершить невозможное.
«Шаламов не считает, что в “исправительных” лагерях происходит очищение посредством страданий. Если Примо Леви видит путь к спасению в рассудке, Шаламов – чистый натуралист, как он сам признает в “Тифозном карантине”: “Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака”». Отдавая должное и «Архипелагу ГУЛАГ», и «Се человек» Примо Леви, Виктор Андреско ставит Колымские рассказы в литературном плане выше обоих, поскольку «Шаламов в силу уже упомянутой натуралистической склонности способен подняться над человеческим восприятием и проникнуться ощущениями других форм жизни в своем суровом окружении. В этом смысле они напоминают “Дерсу Узала”, в частности, когда говорится о стланике».
«В своих рассказах – малой форме – Шаламов достигает эмоциональных высот, которые обычно удается достичь лишь в крупных формах».
Автор рецензии в журнале Leer называет Шаламова «маэстро физической боли, страдающего тела. Больше никому не удавалось с такой точностью и простотой передать весь груз страданий, легший на плечи заключенных. Боль не служит искуплению, она бесполезна. Она не помогает описать пережитое, воспоминания всегда искажаются. Однако Шаламов был писателем еще до того, как стать бесплатной рабсилой сталинской планеты. Его писательский талант только возрастет по возвращении, через 20 лет лагерей, после смерти Сталина и потрясений XX съезда. Реабилитация Шаламова сродни воскрешению Лазаря – это чудо». В подтверждение своей мысли тот же автор цитирует Синявского: «И в этом особое преимущество Шаламова перед другими авторами. Он пишет так, как если бы был мертвым». «Шаламовский персонаж идет от смерти к смерти. Лагерное время меряется общими – не индивидуальными – смертями», - утверждает рецензия в Leer.
«Из этой борьбы за существование, которой невозможно подобрать эпитета и которую сухими короткими фразами описывает Шаламов, словно глядя издалека на страдания, которые перенес и сам, человек выходит опустошенным и сломленным. Шаламов препарирует все эпизоды, ощущения и чувства – свои и братьев по несчастью – с математической точностью и мастерством художника, который знает цену слову».
«В рассказах нет порицания, горечи, но нет и смирения. Лишь желание описать нечеловеческие условия, то, что поддерживало в человеке жизнь, которая сводилась к стремлению не умереть от голода-холода-пули. Но это не просто документальные описания, каждый рассказ – это маленький шедевр, и в совокупности они составляют литературный памятник невиданных масштабов».
«Однако в последнем рассказе Шаламов поражает читателя тем, что делится собственным удивлением от того, что смог очнуться от этого летаргического сна. “Сентенция” - пример того, как воскрешает слово».
«В своем повествовании Шаламову удается избежать и затаенной злобы, и слезливости, и обличительности – ему не нужны эти искусственные подпорки, чтобы привлечь внимание к немыслимому миру лагерей, представляющих собой отражение внешнего мира».
Нередко подчеркивается простота, обыденность и вместе с тем сила шаламовской прозы.
«В этих рассказах нет вывода, нет морали, нет развития персонажа: на Колыме человек не развивается и не деградирует, он движется по обесчеловечивающей спирали, которую методично и непреклонно описывает Шаламов».
«В конечном итоге массив этих рассказов, этих разрозненных мазков, складывается, как на полотне пуантилиста, в эпическое произведение».
«Каждый шаламовский абзац словно удар под дых».
* * *
Обзор сделан по следующим публикациям:
Shalámov, relatos de la vida en el infierno, Ricardo san Vicente («Шаламов, рассказы о жизни в аду», Рикардо сан Висенте), La Vanguardia, 20 мая 2009 http://www.lavanguardia.com/cultura/20090520/53707228884/shalamov-relatos-de-la-vida-en-el-infierno.html
El dolor y la nieve, Almudena Guzmán («Боль и снег», Альмудена Гусман) ABCD, 29 декабря 2007
La costumbre de la barbarie, Almudena Guzmán («Привычка к бесчеловечности», Альмудена Гусман) ABCD, 28 марта 2009
Dos viajes al horror de gulag («Два путешествия в лагерный кошмар») El País, 18 февраля 2008
Shalámov renacido, Ramón Muñoz («Возрожденный Шаламов», Рамон Муньос), El País, 22 декабря 2007
Relatos de Kolimá. Volumen IV La resurrección del alerce, Víctor Andresco («Колымские рассказы. Том 4. Воскрешение лиственницы», Виктор Андреско) El País, 24 сентября 2011
La muerte blanca, Olga Merino («Белая смерть», Ольга Мерино) El Periódico de Catalunya, 17 января 2008
El crisol de Europa, Olga Merino («Плавильный котел Европы», Ольга Мерино) El Periódico, 5 июня 2010
Shalámov, maestro del dolor, Carmen Grimau («Шаламов, знаток страдания», Кармен Гримау) Leer, декабрь 2011
Kolimá o la muerte blanca, Carlota Vicens Pujol («Колыма - белая смерть», Карлота Висенс Пужоль) Bellver, Diario de Mallorca, 14 января 2010
El Artículo 58, Manuel Arranz («Статья 58», Мануэль Арранс»), Levante, El Mercantil Valenciano, 7 декабря 2007
Shalámov profundiza en el calvario del gulag en su cuarto volumen de relatos («В четвертом томе рассказов Шаламов продолжает хождение по лагерным мукам», ADN, 24 июля 2011.
Crónica del horror y la quietud («Хроника ужаса и безмолвия»), El Сríticо, 16 февраля 2008
El horror de los campos de trabajo soviéticos, Lluís Vergés («Ужас советских исправительных лагерей», Луис Верхес), Menorca, 30 марта 2008
La aniquilación de lo humano, Héctor J. Porto («Аннигиляция человеческого», Гектор Порто) La Voz de Galicia, 29 декабря 2007
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.