
Перевод как насильственное обращение
Новое издание «Колымских рассказов» в двух томах на английском языке в переводе Дональда Рейфилда (New York Review Books,2018,2019) стало большим литературным событием, вновь привлекшим внимание к проблеме качества перевода, а также к проблеме стереотипов восприятия личности и творчества Шаламова на Западе. Редакция сайта shalamov.ru намерена посвятить новому изданию ряд публикаций аналитического характера с привлечением как зарубежных, так и отечественных исследователей и переводчиков Шаламова. Для начала мы предлагаем читателям ознакомиться с рецензионной статьей российско-американской исследовательницы Анастасии Осиповой, опубликованной в газете Los Angeles Review of Books, JULY 11, 2019 — https://lareviewofbooks.org/article/the-forced-conversion-of-varlam-shalamov?fbclid=IwAR36c9c75aYT4Dh9WXZNXtNb2M4ufZldLy8K3MIJoPs3JpgRTGSrtt0ML9U.
Следует заметить, что русский перевод этой статьи, выполненный без ведома автора в прошлом году на книжном сайте www.livelib.ru и перепечатанный в ряде сетевых изданий, является далеко не точным, скорее механическим и не передающим многих нюансов мысли автора (начиная с примитивизированного и двусмысленного заглавия статьи — «Принудительное обращение Варлама Шаламова»). По нашей просьбе Анастасия Осипова сама сделала перевод своей статьи, за что мы ей очень благодарны. Надеемся, что этот строгий критический текст послужит хорошим прологом дискуссии о новом издании «Колымских рассказов», подготовленном Д. Рейфилдом.

История публикации «Колымских рассказов» Варлама Шаламова — это история конфликтов между издателями и автором, конфликтов, которые как правило разрешались не в пользу последнего и в ущерб его текстам. Ранние издатели КР как в сам-, так и тамиздате редко признавали художественную ценность и своеобразие шаламовских рассказов и видели в них в первую очередь документальные очерки из жизни лагерей, написанные пусть и сохранившим способность работать, но уж совсем «нелитературным» автором. Как следствие, тексты Шаламова нередко подвергались насильственной «правке» без его ведома и разрешения. Так, например, в советском самиздате оказывалось дописанным намеренно оборванное предложение в рассказе «Как это началось»: «Осенью мы еще рабо…». (В оригинале оно не окончено нарочно — так передается степень физического изнеможения, когда писать просто не остается сил). Издатели-эмигранты действовали еще более решительно. Роман Гуль, редактор нью-йоркского «Нового журнала», где с 1966 по 1976 гг. медленно и в произвольном порядке, без соблюдения продуманной Шаламовым структуры цикла КР, выходили отдельные рассказы, самовольно вырезал целые абзацы, казавшиеся ему перенасыщенными подробностями лагерного быта, добавлял эпиграфы и даже активно высказывался против выхода сборника отдельной книгой[1]. Основной причиной подобного издательско-редакторского насилия против бывшего узника сталинских лагерей, было либо невнимание, либо намеренное игнорирование художественной особенностей шаламовской прозы.
Новое англоязычное издание КР в переводе Дональда Рейфилда ценно уже хотя бы тем, что в нем сохранена композиционная целостность шаламовских сборников. (В первый, объемный семисотсорокастраничный том, опубликованный в 2018 году, вошли три из шести циклов. Рассказы переведены без купюр и представлены в последовательности, задуманной автором. Выпуск второго тома планируется на вторую половину 2019 года.) В отличие от Джона Глэда, первого переводчика Шаламова на английский, Рейфилд работал с авторскими текстами, изданными в России И.П. Сиротинской, а не с отредактированными Гулем версиями. Как следствие, разница между переводами Рейфилда и Глэда весьма разительна. Среди прочих достоинств работы Рейфилда стоит отметить его тонкое чувство ритма — крайне важное качество для работы с музыкально-заряженной прозой Шаламова, в которой основные сюжетные элементы и главные темы нередко подчеркиваются напряженной краткостью повествования и аллитерацией. Но как и многие его предшественники, Рейфилд видит в Шаламовe в первую очередь документалиста, ценность произведений которого состоит главным образом в обличении преступлений сталинизма, и уделяет слишком мало внимания поэтике и художественным особеностям шаламовской прозы. Возможно, именно этим объясняются те неожиданные ошибки, которые допустил этот опытный и талантливый переводчик. Очевидно, что их причина не в недостатке мастерства или чувства языка, а в либо намеренном, либо бессознательном цензурировании тех аспектов шаламовской прозы, которые выходят за узкие рамки жанра свидетельства.
Причины, по которым Шаламов был не понят большинством диссидентов и эмигрантов, совпадают с теми, по которым они предпочли ему Солженицына. Трудно представить двух писателей, чьи политические взгляды и подход к литературе были бы более разными. В отличие от Солженицына, которого Шаламов осуждал за потворство политике Холодной Войны, сам Шаламов до конца жизни не отрекся от левых политических взглядов. И если Солженицын наследовал традиции Толстого, то Шаламов — авангарду 1920-х годов. Человек неискоренимого инстинкта неповиновения, атеист, сторонник левой оппозиции, Шаламов до конца жизни не отказался от своих революционных убеждений и никогда не ставил знака равенства между сталинизмом и советским проектом[2]. В достаточно поздней дневниковой записи 1970-х он по прежнему пишет о себе как о человеке «левее левых».
В 20-х годах в Москве Шаламов торопился нагнать чуть более старшее поколение, штурмовавшее небо и принять участие в «огромной … битве за действительное обновление жизни»[3] — битве, которая будет проиграна, но проявленное в которой духовное благородство запомнилось писателю на всю жизнь. Он жадно интересуется и революционной и авангардной культурой, и политикой. Посещает чтения Маяковского, читает формалистов, ходит к Брикам и занимается с Третьяковым. И хотя Шаламов так до конца и не разделит энтузиазм Брика и Третьякова в отношении литературы факта, однако общение с ними безусловно повлияло на сжатый, как бы сконцентрированный, насыщенный документальными подробностями язык «Колымских рассказов».
Во время работы над КР в 1950-1960-х гг. Шаламов пишет статьи, в которых формулирует основные положения своего художественный метода. В его основе — материалистический подход к литературе: письмо и мышление, как и любые другие формы труда, требуют калорий, без которых никакая культура просто не выживет. (Однако иногда поэзия сама становится источником такой физической энергии: про умирающего от голода поэта мы читаем, что «он не жил ради стихов, он жил стихами».) Исследование того, как физические условия, «несовместимые с жизнью», разрушают и унижают не только людей, но и литературные формы — одна из главных задач рассказов Шаламова. Основные черты его «прозы, выстраданной как документ» (по мнению писателя, единственного жанра, возможного после Хиросимы, Освенцима и Колымы) — это отказ от моралистической оценки, высокая концентрация документальных и сенсорных деталей, воссоздающих интенсивность переживания реального опыта, и критика пассивного наблюдения. «Никаких воспоминаний в “КР” нет»[4].
Однако Дональд Рейфилд видит в КР главным образом документальные личные воспоминания. «Чтение этих рассказов знакомит нас с биографическими событиями пятидесяти первых лет из жизни [автора]», — пишет он в своем предисловии. И далее: «Переводить Шаламова не трудно. Он избегает стилистических эффектов; большинство его рассказов написаны намеренно «грубо», смело используются одни и те же прилагательные; метафоричность сведена к минимуму». Рейфилд прав, когда отмечает, что «грубость» и «неотполированость» шаламовской прозы — это осознанный эстетический выбор, цель которого — усилить впечатления документальности. (Но достаточно взглянуть на многочисленные авторские правки в рукописях КР[5], чтобы понять, насколько кропотливо Шаламов прорабатывал свои тексты). Сам же Шаламов вновь и вновь настаивал, что «все повторения, все обмолвки, в которых [его] упрекали читатели, — сделаны [им] не случайно, не по небрежности, не по торопливости [...] Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок»[6]. Несмотря на явную «фактичность» прозы Шаламова, документальные детали в ней часто обладают «двойным дном» и выступают как метафоры (если говорить точнее — как модели) процесса литературного труда, не теряя при этом своей документальной правдивости. Чтобы сохранить этот тщательнейшим образом созданный метапоэтический подтекст, от переводчика Шаламова требуется предельная внимательность и осторожность (равно как и вера в сложность поэтической конструкции шаламовской прозы).
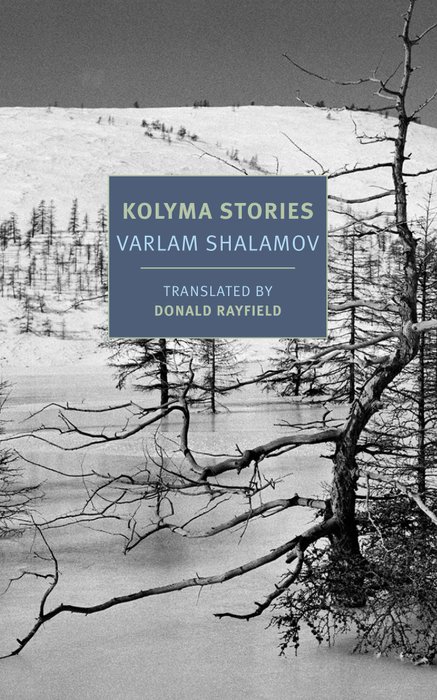
Рейфилд сетует на то, что «[рукописи Шаламова] не были […] отредактированы» и считает, что «повторение тем, ситуаций и образов в поздних сборниках» указывает на недостаток авторского мастерства, а не на авторский замысел. Сам же Шаламов подчеркивал, что: «Правка, «отделка» любого [его] рассказа необычайно трудна, ибо имеет особые задачи, стилевые». Сама по себе оценка переводчиком КР как прозрачного документа, написанного человеком, у которого просто не хватило сил отредактировать его как следует, вряд ли заслуживало бы отдельного упоминания, если бы она не привела к попыткам стереть метапоэтическое измерение КР.
Самый поразительный пример подобного насильственного переписывания ждет нас уже на самой первой странице. Рассказ «По снегу» был подробнейшим образом проанализирован и прокомментирован многими литературоведами и критиками. Кажется, уже только ленивый не отмечал, что этот текст, которым открываются КР, является своего рода манифестом художественной программы всего цикла. Инструкция по протаптыванию дороги по целине, написанная во вполне фактографической манере, в последнем предложении обретает дополнительный смысл метафоры литературного труда в экстремальных условиях:
Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели. (В. Шаламов)
Of those who follow in the footsteps of the trailblazer, even the smallest, the weakest, must step onto a spot of virgin snow rather than into another man’s footprint. As for the tractors and horses, those are for readers, not for writers. (пер. А. Осиповой)
Снежная целина, по которой «неровными черными ямами» пролегли следы, начинает разительно напоминать поверхность белого листа бумаги, размеченного буквами. (Кстати, материальность поверхностей для «бедного» письма, поверхностях на которых запечатлеваются сжатые, сведенные почти до концентрации иероглифов знаки-рубцы, знаки-сигналы неповиновения, являются одной из сквозных тем шаламовских текстов. Достаточно вспомнить изрезанную дверь Бутырской бани — единственную поверхность, на которой заключенные могли оставлять свои сообщения, либо шкуру собаки Тамары со следами от пуль как единственное напоминание стихийного бунта, на которое ее акт неповиновения вдохновил заключенных). Типичным для «новой прозы» образом введение дополнительного семантического уровня не умаляет ни документальную насыщенность, ни документальный пафос языка. Фактичность и поэтичность в шаламовских текстах сосуществуют, срастаются.
Рейфилд переводит «читатели» как «bosses» (начальники), а «писатели» как «underlings» (подчиненные): «As for riding tractors or horses, that is the privilege of the bosses, not the underlings» («А на тракторах и лошадях могут ездить начальники, а не подчиненные»). Как результат, аналогия с литературным трудом исчезает. Рейфилд сознательно и намеренно изменяет значение ключевого предложения, задающего смысловое направление всего цикла.
И если у кого-то оставались сомнения в том, что КР в равной степени об уничтожении не только человеческих жизней, но и литературной традиции в лагерных условиях, то первое предложение следующего же рассказа должно их рассеять. Для русскоязычного читателя «На представку» — рассказ о карточной игре блатных заключенных, которая заканчивается убийством «политического» — не может не вызывать ассоциаций с пушкинской «Пиковой дамой». Шаламовский рассказ начинается откровенной цитатой:
Шаламов: Играли в карты у коногона Наумова.
Пушкин: Играли в карты у конногвардейца Нарумова.
Одновременная надстройка и профанация русской классической литературы, испытание «старой прозы» на прочность в новой жизни ГУЛАГа — один из основных приемов, используемых в переполненных аллюзиями КР. В «На представку» мрачная, фантастическая и театральная атмосфера «Пиковой дамы» перенесена в лагерь (и политические подглядывают за жутковатым зрелищем карточной игры так же, как Герман сперва за карточным столом, а потом — за переодевающейся в ночное платье графиней). Но пушкинский рассказ — далеко не единственный интертекст для «На представку»: Шаламов вкрапляет отсылки сразу к нескольким авторам мрачной романтической литературы. Как и люди, литературные произведения в лагерях подвергаются физическим пыткам и унижениям: томик Виктора Гюго оказывается разрезан на самодельную колоду карт, профиль Гоголя вытиснен на портсигаре, поставленном на игру вместе с вышитыми полотенцами, а цитата из Есенина вытатуирована на груди у одного из блатных.
В переводе этого первого предложения Рейфилдом все в порядке. Однако, кажется важным указать на связь с произведением Пушкина в примечаниях. В этом, как и во многих других случаях, когда Шаламов прибегает к косвенному цитированию и интертекстуальным ссылкам, комментирование становится важной составляющей переводческой задачи. (А степень интертекстуальной плотности прозы Шаламова очень велика: мы встречаемся с отсылками к Державину, Тынянову, Блоку, Стендалю, Тациту, Овидию, Лондону, Хемингуэю, Прусту, Франсу и многим другим). К сожалению, Рейфилд в своих критических комментариях оказывается слишком скуп.
Перевод «На представку» читается хорошо, однако часть поэтической насыщенности все же оказывается утраченной. Атмосфера рассказа театральна (а пассивное зрительское наблюдение проблематизировано). Действие происходит в темноте, при свете единственной прикрученной к столбу лампочки-колымки, освещающей экзотического вида блатных за карточной игрой. Шаламов подробно описывает красочные атрибуты этих адских денди, которые так привлекали интеллигентов «городской культуры» на воле: наколки, «фиксы», нательные кресты с выгравированными обнаженными женщинами и длинные, холеные ногти. Двое «политических», следящих за игрой, вскоре оказываются насильно вытащенными в свет этого «прожектора» и один из них становится жертвой в финальном акте этого действа. Шаламов так описывает ритуализированный обмен ругательствами между игроками, пока они решают ценность ставок:
Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не остался в долгу и ругался еще язвительнее, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в тысячу. (В. Шаламов)
The spectators around the players patiently waited for this traditional overture to end. Sevochka gave as good as he got, cursing even more viciously to knock the price down. At the end, the costume was valued at a thousand. (пер. А. Осиповой)
The spectators crowding around the players patiently waited for this traditional opening move to end. Sevochka gave as good as he got, cursing even more viciously in order to knock the price down. In the end Naumov’s clothes were valued at a thousand. (пер. Д.Рейфилда)
Переведя «увертюра» как «opening move» («первый ход») и заменив «костюм» на «clothes» («одежда»), Рейфилд стер атмосферу страшного и ритуального театрального представления.
Излишне документальный подход Рейфилда ощущается и в его переводе «Шерри-бренди» — рассказе о том, как умирает от голода безымянный заключенный поэт. В примечаниях Рейфилд поясняет, что рассказ назван по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама, из чего он делает вывод, что рассказ непосредственно повествует о событиях гибели Мандельштама. Однако сам текст рассказа и комментарии Шаламова противоречат такому «прямому» прочтению. Так, в письме к Ирине Сиротинской от 1971-го года, Шаламов настаивает: «“Шерри-бренди” не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе». Иными словами, рассказ правдиво описывает голодную смерть, но не документирует последние дни жизни Мандельштама (свидетелем которых Шаламов не был). «Шерри-бренди» — художественный кенотаф поэту, описание воздействия голода на психическое и физическое состояния, а также размышление о значении литературы в лагере.
Как и «По снегу», «Шерри-бренди» построен с помощью спаянных, сросшихся вместе жизненных и литературных фактов. Воронка предсмертного бреда, все глубже затягивающего героя, вращается вокруг переживания нетождественности, неравенства своего поэтического «корпуса» и «сведенного на нет» физического тела доходяги. «Что значит: умер как поэт?» Настоящая новая поэзия как для героя этого рассказа, так и для самого Шаламова, рождается лишь когда удается одновременно жить в этих двух несводимых ипостасях: «И, увидя, что он — это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи». Однако перевод Рейфилда не отражает этих усилий объединить тело физическое, лагерное и тело литературное — основной мысли рассказа:
Вся прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью. Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие владело им. Какими это все было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе — как он может так думать о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? (В. Шаламов)
His entire past life was literature, books, fairy tales, dreams, and only this present day was real life. All these thoughts took place not as a dispute but secretly, deep down in his inner self. He didn’t have enough passion for such reflections. Indifference had long taken possession of him. How trivial it all was, like mice scrabbling about, compared with the unkind weight of life. He was amazed at himself. How could he be thinking like this about verses when everything had been decided, and he knew it very well, better than anyone? Who needed him here, and who cared? (есть ли кому до него дело?) (пер. Д. Рейфилда)
Последние слова оригинала можно буквально перевести, как «Who needed him here and to whom was he equal?». Речь идет не о безразличии других заключенных, а о трудности нахождения общего знаменателя между «я», принадлежащим поэзии, и — замученным, лишенным свободы, страдающим от голода и цинги. В конце рассказа поэт все-таки обретает своеобразное бессмертие, пародию на литературную славу. Его имя забывают вычеркнуть из списков живых и в течение двух дней после смерти соседи получают за него хлебный паек.
Политика становится еще одним камнем преткновения между Рейфилдом и Шаламовым. Так, Рейфилд позволяет себе предположение, что Шаламов, человек, проведший почти два десятка лет в лагерях и гордившийся тем, что за это все это время сумел никого не выдать и не предать, является пособником сталинских репрессий:
В некоторой мере, Шаламова можно обвинить в соучастии (в сталинских репрессиях): он восхищается красными героями гражданской войны, которые совершали преступления, не уступавшие по жестокости пришедшим им на смену Сталинским палачам. В «Золотой медали», одном из своих самых длинных рассказов, Шаламов чуть ли не возводит в сан святой революционерку-террористку Надю (sic!, Рейфилд имеет в виду Наталью) Климову. Несмотря на все страдания, выпавшие на долю Шаламова, он так и не осудил революционных убийц, коль скоро они были движимы идеализмом и были готовы расплатиться за него собственной жизнью.
Мысль о том, что сочувствие и уважение к социал-революционерке Климовой дает основания обвинять Шаламова в пособничестве сталинскому террору, мне кажется оскорбительной и по отношению к Шаламову, и к русской истории в целом. Рейфилд приравнивает все революционные движения конца девятнадцатого-начала двадцатого века к сталинизму. Для самого Шаламова подобная точка зрения была недопустима. Советские лагеря для него наследовали, скорее, царским крепостям и каторге, а не революционному террору. Как и в случае с редуктивно-документальной интерпретацией рассказов, мнение переводчика не играло бы роли, если бы не привело к изменению посыла самих текстов.
Шаламов признает моральный и духовный подвиг русских революционеров 19 и начала 20 вв., а их неповиновение царизму считал эталоном для своей собственной борьбы. Наталья Климова — одна из таких героев. В ожидании смертной казни за покушение на председателя Совета Министров Петра Столыпина (впоследствии приговор будет заменен на бессрочную каторгу), эта двадцатиоднолетняя девушка пишет прощальное письмо с жизнью, удивительное тем, что в нем нет ни горечи, ни ожесточенности. Вместо этого оно пронизано глубоким чувством любви и сопричастности не только к людям, но и растениям, животным, даже камням. Рассказ Шаламова о Климовой — интересная смесь биографии, агиографии, сказки и размышлений об историческом наследовании между революционерами и советскими диссидентами 60-х. В подготовке к его написанию Шаламов провел обширную архивную работу, в которой ему помогала Наталья Столярова, дочь Климовой, сама проведшая 10 лет в лагерях. Описание организованного Климовой знаменитого побега тринадцати содержит множество цитат из «Последнего боя майора Пугачева» — одного из немногих рассказов КР, в котором открыто утверждается сила духа и свободолюбия в лагерях.
«Лучшая похвала» — это еще одно «житие» эсерки, Марии Добролюбовой, которая, пишет Шаламов, выстрелила себе в рот, не решившись на порученное ей политическое убийство. Добролюбова—женщина редкой жертвенности и душевной красоты, вдохновившая многих людей Серебряного века, в том числе и Александра Блока. После пересказа истории о жизни Добролюбовой Шаламов описывает встречу в Бутырской тюрьме после своего второго ареста в 1937 году с человеком, в котором он видел живое воплощение духовного и политического наследия Добролюбовой. Александр Андреев, бывший член правого крыла партии эсеров и генсек общества политкаторжан, становится другом Шаламова. А когда наступает время прощаться, Андреев награждает его «лучшей похвалой»: говорит, что Шаламов «может сидеть в тюрьме», т.е. что ему хватит сил не сломиться. Таким образом, Шаламов сам предстает духовным наследником Андреева, и через него — и всех политзаключенных, которыми так богата русская кровавая история. В этих мужчинах и женщинах писателя вдохновляет не терроризм (его он открыто осуждает), а мужество перед лицом гнета и несгибаемая воля к свободе.
Сквозным мотивом «Лучшей похвалы» является вера — религиозное чувство, не связанное ни с какой религиозной догмой. Оглядывая камеру, в которой теснятся революционеры всех мастей, подростки, обвиненные в политических убийствах, и мелкие нарушители, попавшие под жернов «правосудия» — все они изнеможенные, подавленные, — Андреев подводит итог: «Здесь есть только мученики. Здесь нет героев». В переводе Рейфилда реплика звучит так: «Здесь только люди. Здесь нет героев». «There are only men (люди, мужчины) here; there are no heroes». Трудно объяснить эту замену иначе, чем политической цензурой. Слова, в оригинале выражающие почтительное сострадание целому поколению людей, сломанных и уничтоженных режимом Сталина, у Рейфилда превращаются в откровенное пренебрежение к их борьбе. Фраза о мучениках — один из лейтмотивов Шаламова: мы встречаем ее как в рассказах, так и в письмах и статьях. Например, ею заканчивается «Как это началось». Но в этом контексте она относится к смертельно изнуренным заключенным, у которых уже не осталось ни политических биографий, ни субъективности, и тут Рейфилду не составляет труда перевести предложение правильно: «They were martyrs, not heroes». («Это были мученики, а не герои» — В.Т. Шаламов).
Краткую биографию писателя в предисловии к изданию Рейфилд завершает следующим предложением: «На основании того, что Шаламов как сын священника был крещен, его друзья и люди, причастные к миру советской литературы, похоронили его по церковному обряду». Какими бы мотивами и сантиментами ни руководствовались эти «друзья», они явно не интересовались убеждениями самого Шаламова — атеиста, человека чуждого любых мелодраматических жестов и автора рассказа «Необращенный», о том, как принципиальный отказ принять христианство стоил ему тарелки жизненно необходимого супа. Трудно не расценить это решение похоронить Шаламова по церковному обряду (на которое сам Шаламов, глухой, слепой и немой в свои последние дни, согласие дать никак не мог) иначе как очередную попытку эксплуатации. Очень печально и обидно, что в попытке насильственно представить Шаламова как автора ценных, но незамысловатых документальных свидетельств, а не писателя уникальной глубины и сложности, Рейфилд, несмотря на свои превосходные качества как переводчика, в некотором роде продолжает эту эксплуатацию.
Сам Шаламов сомневался в возможности и целесообразности перевода и не верил, что его произведения могут быть успешно переданы на другом языке[7]. Стоит искренне поблагодарить Дональда Рейфилда за то, что он осмелился ослушаться воли Шаламова и, тем самым, приблизил его к англоязычному читателю. Однако остается надеяться, что перевод второго тома КР обойдется без насильственных обращений.
Примечания
- 1. См. Яков Клоц, «Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978)», https://www.colta.ru/articles/literature/13546-varlam-shalamov-mezhdu-tamizdatom-i-soyuzom-sovetskih-pisateley-1966–1978.
- 2. «Я ведь был представителем тех людей, которые выступили против Сталина, — никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же». «Вишера»
- 3. «Штурм неба»
- 4. «О прозе»
- 5. См. раздел «Рукописи» нашего сайта. Прим. ред.
- 6. О целостности композиции КР писали многие (Валерий Есипов, Елена Михайлик, Елена Волкова и другие).
- 7. «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и, вообще, все — в границах языка». «Письмо в “Литературную газету”»
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.