
Блатная романтика, поэтика памяти и документальная художественность (рассказ В. Шаламова «На представку»)

Н. Мандельштам в главе «Память» «Второй книги» воспоминаний писала: «Страна, в которой истребляли друг друга в течение полувека, боится вспоминать прошлое. Что ждёт страну с больной памятью? Чего стоит человек, если у него нет памяти?» [6, c. 120].
По мнению профессора Кембриджского университета Д. Томпсон, «сейчас мы являемся свидетелями истинного возрождения прошлого России, её исторической, культурной и литературной памяти» [7, c. 9]. Так это или нет, но не вызывает сомнений тот факт, что творчество В. Шаламова внесло свой неоценимый и до сих пор не вполне оценённый вклад в попытку сохранения в памяти последующих поколений тех сложных исторических событий, свидетелем которых ему и многим из его современников довелось быть. Масштаб трагедий тех, кто не по своей воле оказался в сталинских исправительно-трудовых лагерях, а во многих случаях фактически в лагерях уничтожения, едва ли возможно адекватно осмыслить без прозы В. Шаламова, несмотря на то, что он, разумеется, далеко не единственный, писавший на эту тему.
В. Шаламов опасался естественной реакции организма на пережитое — забвения всех ужасов лагерей, боялся, что, вернувшись из заключения, он забудет всё увиденное и пережитое на Вишере и особенно на Колыме — забудет всё то, что предать забвению нельзя:
«Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть всё, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть всё, что я видел. И я успокоился <…>» [11, с. 603–604].
И общей закономерностью, вырастающей из подобной уверенности, а вместе с тем одной из конструктивных составляющих частей поэтики прозы В. Шаламова, её квинтэссенцией стала память, единой неразрывной нитью связующая образы, мотивы и сюжеты всех текстов прозаических циклов писателя в целостную книгу с единым творческим замыслом.
Одной из своих основных задач в литературе В. Шаламов считал борьбу с безудержной поэтизацией уголовщины, озарившей многих блатным огнём и особенно распространившейся в отечественной литературе в кризисные 20-е годы XX века. Среди художественных произведений, авторы которых окружили мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешёвой мишурой, писатель называет такие, как «Беня Крик» И. Бабеля, «Вор» Л. Леонова, «Мотькэ Малхамовес» И. Сельвинского, «Васька Свист в переплёте» В. Инбер, «Конец хазы» В. Каверина[1]; в этом же ряду локализовались и знаменитые романы И. Ильфа и Е. Петрова с главным героем — фармазоном Остапом Бендером и др. Романтизированы М. Горьким не менее известные персонажи Челкаш и Васька Пепел. В связи с поэтизацией уголовщины В. Шаламов писал А. Солженицыну, обращая внимание своего адресата на необходимость развенчания в литературе блатной романтики:
«Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет “Аристократами” Погодина и продукцией Льва Шейнина, — неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков <…>. Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы» [13, с. 441–442].
Заметим, что детективно-приключенческая продукция судебного и прокурорского работника, а по совместительству и писателя Л. Шейнина стала появляться в эпоху начала большого террора — с 1937 года. Репрессированный ленинградский писатель С. Дрейден, знакомый с допросами не понаслышке, вспоминал:
«В 1937 году был <…> на премьере пьесы братьев Тур и Шейнина “Очная ставка”, обличавшей зарубежных шпионов (лишь много лет спустя узнал, что Туровский соавтор — следователь по особо важным делам Л. Шейнин был мастаком заплечных “очных ставок”, но в пьесе это отразилось едва-едва)» [2, c. 122].
 Типажи уголовников. Из отчетов НКВД по Дальстрою. Середина 1940-х гг. Коллекция кинорежиссера С. Быченко. |
Примечательно, что самого С. Дрейдена литературовед В. Кожинов называет в числе тех, кто «в своё время жестоко травил Михаила Булгакова» [5, c. 301][2].
Проблема безудержной поэтизации уголовщины во многом связана с тем, что
«преступный мир с гуттенберговских времён и по сей день остаётся книгой за семью печатями для литераторов и читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьёзнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая её в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого» [12, с. 11].
Другая не менее важная проблема связана с не потерявшей актуальности мыслью В. Шаламова о том, что «у нас есть тысячи дешёвых детективов, романов. У нас нет ни одной серьёзной и добросовестной книги о преступном мире, написанной работником, чьей обязанностью была борьба с этим миром» [12, с. 30].
Возвеличивающей уголовный мир литературе В. Шаламов, познавший на собственном опыте весьма специфические креативные способности воров-джентльменов и хозяев лагерной жизни, противопоставил свои прозаические сборники. Особенно подробно В. Шаламов останавливается на описании воровского подземного гнусного ордена в «Очерках преступного мира» (1959). Итоговую мысль «Очерков» автор выразил в словах:
Карфаген должен быть разрушен!
Блатной мир должен быть уничтожен!
Саморазоблачительный романтический ореол членов блатного ордена предстаёт в новом свете в прозаических текстах В. Шаламова, в которых представители воровского сообщества скорее похожи не на героев-романтиков, а на легендарного греческого Ликаона, отведавшего человеческого мяса и превратившегося в волка [8, c. 307].
В очерке «Жульническая кровь» В. Шаламов пишет о вполне заурядных случаях уголовной романтики:
«Вор развлекается по-другому. Убить кого-нибудь, распороть ему брюхо, выпустить кишки и кишками этими удавить другую жертву — вот это — по-воровски, и такие случаи были. Бригадиров в лагерях убивали немало, но перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой — на такую мрачную изобретательность мог быть способен только блатарский, не человеческий мозг» [12, с. 31].
В рассказе «Заклинатель змей» приводится не менее живописный пример:
«Блатари услыхали, что, если в вену человека ввести воздух, пузыри воздуха закупорят сосуд мозга, образуют “эмбол”. И человек — умрёт. Было решено немедленно проверить справедливость интересных сообщений неизвестного медика. Воображение блатарей рисовало картины таинственных убийств, которые не разоблачит никакой комиссар уголовного розыска, никакой Видок, Лекок и Ванька Каин. Блатари схватили в изоляторе какого-то голодного доходягу, на их языке — фраера, связали его и при свете коптящего факела сделали жертве укол. Человек вскоре умер — словоохотливый фельдшер оказался прав» [12, с. 78–79].
Подобных примеров неопровержимых фактов живой жизни Колымы у В. Шаламова великое множество.
Вяч. Вс. Иванов в статье «Аввакумова доля» отмечает специфику шаламовского творчества:
«Вскоре мы начали читать самиздатские тексты лагерных рассказов Шаламова — едва ли не самого оригинального и убийственно точного литературного воплощения пережитого времени. <…> Его (В. Шаламова. — Ч.Г.) полная тематическая и стилистическая бескомпромиссность, отсутствие фальши и традиционности делали сосуществование с официальной советской прозой невозможным» [3, c. 739].
О предполагаемой документальной прозе будущего В. Шаламов скажет, что это «есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где всё — документ и в то же время представляет мемуарную прозу» [13, с. 376]. Эту автохарактеристичность творчества в полной мере можно отнести к любому из рассказов и очерков (эмоционально окрашенным документам) В. Шаламова.
Ещё до «Очерков преступного мира» в поле творческого зрения писателя попадает мир уголовников-блатарей (т.е. домушников, скокарей, фармазонов, карманников, урок, уркаганов, жуликов, людей, жуков-куков, воров в законе и т. п.). Так, одно из первых обращений В. Шаламова к этой подземной теме находим в рассказе «На представку» (1956).
Повествование в рассказе «На представку» начинается с описания барака коногонов, в котором блатные («друзья народа») обычно играли в карты. Барак коногонов для игры в карты выбран не случайно — надзиратели сюда не заглядывают, вся их бдительность направлена на «врагов народа» — «контрреволюционеров» (контриков, фашистов, троцкистов), осуждённых по пятьдесят восьмой статье. Играть собираются на нижних нарах в правом углу барака. Для освещения действа из подручных средств изготавливается колымка — самодельная лампочка на бензинном паре. На разноцветных одеялах по обеим сторонам грязной подушки сидят игроки — блатарь Севочка и бригадир коногонов Наумов. На подушке лежит новая колода карт, которая в здешних местах делалась весьма быстро при помощи куска хлеба, огрызка химического карандаша, ножа и любой книги. Примечательно то, что карты в рассказе вырезаны из случайно позабытого кем-то томика романтика В. Гюго, о котором в очерке В. Шаламова «Об одной ошибке художественной литературы» можно прочесть буквально следующее:
«По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир — это такая часть общества, которая твёрдо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть — с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми “мизераблями”[3] после чтения романов Гюго. Кличка “Жан Вальжан” (главный герой романа “Отверженные”. — Ч.Г.) до сих пор существует среди блатарей» [12, с. 7].
Так случайный томик В. Гюго вполне сгодился романтикам-мизераблям для изготовления карт — даже «листков не пришлось склеивать», поскольку они оказались как раз впору: и толстыми, и плотными.
После всех незатейливых приготовлений «честная воровская игра»[4], предполагающая обязательное стратегическое умение, заключающееся в проявлении особой доблести — способности обмануть, уличить партнёра и оспорить сомнительный выигрыш, начинается. Любопытно, что здесь семантика слов игра и карточная игра эквивалентна семантике слова баталия, с которой и сравнивается: там собирались блатные для своих карточных поединков; сражение продолжалось; бой не может быть окончен, пока партнёр может ещё чем-нибудь отвечать и др.
В композиционном строе рассказа своеобразную усилительно-выделительную роль играет весьма важная символическая деталь — Севочкин ноготь мизинца сверхъестественной длины, поблёскивающий, как драгоценный камень. Ноготь и пальцы Севочки, как, впрочем, и указующий перст коногона Наумова вместе с его тяжёлым чёрным взглядом, появляются в нескольких ключевых эпизодах рассказа и становятся зловещими сюжетными лейтмотивами.
Выразительный опознавательный признак, жёлтый ноготь знаменитого автохтонного шулера, оттеняет его совершенно невыразительная, конспиративная внешность — необходимый компонент подземной профессии:
«Он был подстрижен “под бокс” самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, жёлтые кустики бровей, ротик бантиком — всё это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече» [11, с. 9].
Даже Севочкин возраст не поддавался никакой разгадке: сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?
Полную противоположность непримечательной внешности Севочки являет собой внешний облик Наумова, хотя и он, в известном смысле, вводит в заблуждение, но по совершенно иным причинам: это был
«черноволосый малый с таким страдальческим выражением чёрных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты “Бог знает”, секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком[5], висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстёгнут» [11, с. 10].
На груди Наумова была видна татуировка с философским изречением, цитатой из единственного признанного и канонизированного блатным миром поэта С. Есенина: Как мало пройдено дорог, / Как много сделано ошибок. Выколотая на груди коногона-«романтика» антитеза, усиленная синтаксическим параллелизмом, едва ли была раскаянием по поводу совершённых ошибок в прошлом, но, скорее, являлась иллюстрацией к настоящей и будущей жизни этого персонажа и вместе с тем некой данью моде, поскольку «отзываться о нём (Есенине. — Ч.Г.) с уважением стало хорошим тоном среди воров» [12, с. 87]. Поэтому, «стремясь как-то подчеркнуть свою близость к Есенину, как-то демонстрировать всему миру свою связь со стихами поэта, блатари, со свойственной им театральностью, татуируют свои тела цитатами из Есенина» [12, с. 91]. И
«пьянство, кутежи, воспевание разврата — все это находит отклик в воровской душе. Они (блатари. — Ч.Г.) проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России — все это ни капли не интересует блатарей» [12, с. 89].
О том, что «есенинские сожаления» Наумова лишь модная декларация, покажет ход дальнейшего повествования.
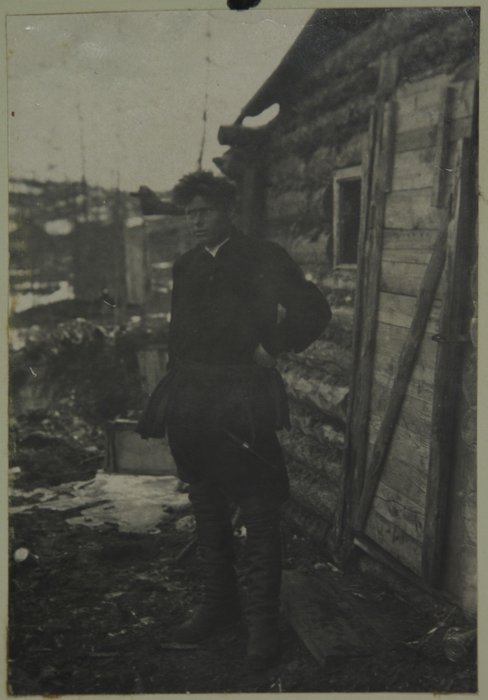 Типажи уголовников. Из отчетов НКВД по Дальстрою. Середина 1940-х гг. Коллекция кинорежиссера С. Быченко. |
Описание внешности персонажей дополняют выразительные речевые характеристики, основные признаки которых весьма схожи друг с другом и отличаются значительно меньше портретных характеристик двух игроков. Отметим, что речь обоих пересыпана громкой, язвительной и многословной руганью, взаимными оскорблениями — всё это превращает диалог соперников в ожесточённый словесный поединок: Севочка по преимуществу цедит сквозь зубы с бесконечным презрением, он оценивает, безразлично отвечает, говорит твёрдо. Выделим предельно грубые и наглые речевые и поведенческие манеры вора-блатаря, резко контрастирующие с элементами его портретного описания, в котором встречаются уменьшительно-ласкательные суффиксы: это и приторность, и пошлость самого имени — Севочка и безобидная деталь его внешности — ротик бантиком.
В психологической стратегии словесного боя Наумов старается ни в чем не уступать более опытному бойцу, поскольку от степени наглости и своеобразного артистизма во многом зависит исход этого не театрального сражения: он говорит хрипло, а когда надо (т. е. когда он проигрывает) и заискивающе[6]. К двум «контрреволюционерам», невольно оказавшимся свидетелями игры, Наумов обращается, напротив, безо всяких заискиваний и речевых изысков, но по-бригадирски привычно — прямолинейно и однотонно (в его понимании так, как и следует обращаться с врагами народа), используя при этом исключительно глаголы в повелительном наклонении: ну-ка, выйди; снимай телогрейку; выходи ты; ну-ка, снимай.
Карточная битва между Севочкой и Наумовым длится не один час и доходит до своего кровавого кульминационного момента — до игры на представку, которую в качестве последнего аргумента проигравшийся бригадир предлагает герою-урке. Бригадир собирается ставить на кон вещи, которые позже будут отобраны у любого фраера, у того, кто в бараке слабее и бесправнее. Красноречив ответ на это предложение:
«Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас в руку была вложена зажжённая махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмёшь? У конвоя, что ли?» [11, с. 11].
Начинающий скучать или делающий скучающий вид Севочка — и здесь не обходится без театральности — чувствует себя несомненным хозяином положения: ему услужливо создают комфорт — вкладывают в руку папиросу, подваривают чифирь. В конце концов артист-Севочка, для приличия театрально поломавшись, всё же принимает предложение сыграть на представку — не хотел обижать Наумова. Очевидно, что Севочка не против выиграть отобранную у кого-нибудь Наумовым представку, но сомневается: где тот её возьмёт?
После проигрыша Наумову приходит в голову новая мысль (мысль сверкнула в мозгу Наумова). Его тяжёлый чёрный взгляд останавливается сначала на одном случайно оказавшемся рядом арестанте, затем на другом — Гаркунове. Оба доходяги, измученные дневной работой в забое, вместо отдыха пришли ночью в барак коногонов заработать пилкой дров кусок хлеба и холодную юшку водянистого супа. Административно-блатарская циничность ярко выражена в официальном названии водянистого, почти не содержащего калорий супа-баланды — украинские галушки. Это название, конечно, не блатари придумали, но в лагерных условиях его использовали некоторые близкие к блатарям по своему специфическому менталитету представители лагерного начальства. Украинские галушки вполне вписываются в лагерную таблицу замены продуктов, по которой выходило, что «ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла» [11, с. 36] (рассказ «Сухим пайком»). Необычный «инвариант» равноценной замены продуктов питания выглядел так: «Ведро воды, да ещё горячей, заменяет кило масла» [1, c. 193].
Однако, как справедливо писал Й. Хёйзинга, «во всякой игре есть ставка» [9, c. 66]. Ставкой в продолжающейся игре «друзей народа» становится представка — шерстяной свитер[7] доходяги Гаркунова, который тот прятал под грязной нательной рубахой:
«Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берёг его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи» [11, с. 12].
Свитер не просто отбирают, но снимают его с мёртвого Гаркунова, вначале предложив его просто отдать (ну-ка, снимай), отдать последнее, что сохраняло память о доме: Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей…. Убийство происходит на глазах привыкшего к подобным сценам и одобрительно помахивающего пальцем Севочки: Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из неё вшей, можно и самому носить — узор красивый, — глубокомысленно изрекает барачный эстет Севочка.
После убийства Гаркунова дневальным Наумова Сашкой, наливавшим совсем недавно двум пильщикам дров супчику, победитель-Севочка вновь демонстрирует свои неординарные для обычного человека, но вполне обыкновенные для блатаря актёрские способности: Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка. Однако же вслед за этим пассажем гневного возмущения ценитель красивых узоров бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнёра для пилки дров.
Подобная сюжетная развязка с описанием убийства как привычного явления лагерной повседневности производит ошеломляющее впечатление. В рассказе «Сухим пайком» (1959) В. Шаламов напишет:
«Мёртвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мёртвому телу» [11, с. 46].
В бараке коногонов интерес «друзей народа» направлен исключительно на свитер с красивым узором.
То неожиданно апатичное спокойствие, с которым принимает смерть Гаркунова его товарищ, свидетельствует о другом драматическом обстоятельстве — для персонажей писателя, испытывающих нескончаемые муки, нет сколько-нибудь существенной разницы между жизнью и смертью. Отсутствие этой разницы в условиях лагеря становится причиной включения В. Шаламовым в рассказы и очерки значительного количества описаний случаев самоубийств (и мыслей о самоубийстве) и случаев умышленного членовредительства, порой граничащих с самоубийством. Этой теме посвящены многие рассказы и очерки писателя: «Плотники», «Серафим», «Сухим пайком», «Галстук», «Необращённый», «Лучшая похвала», «Потомок декабриста», «Последний бой майора Пугачёва», «Букинист», «Бизнесмен», «Курсы», «Май», «Тишина», «Сергей Есенин и воровской мир», «Как “тискают рóманы”», «Житие инженера Кипреева», «Боль», «Город на горе», «Золотая медаль», «Перчатка», «Цикута», «Доктор Ямпольский», «Вечная мерзлота», «Уроки любви».
Едва ли возникнут сомнения в том, что существенную роль в изменении взгляда на ценность жизни как оставшегося в живых персонажа рассказа В. Шаламова «На представку», так и многих других действующих лиц произведений писателя сыграли именно уголовники-рецидивисты, к которым вполне относимы слова очерков «Из Сибири» А. Чехова: «<…> На этом свете они уже не люди, а звери <…>» [10, c. 10]. При этом заметим, что В. Шаламов зверей считал существами гораздо более гуманными, чем представители блатного мира. В рассказе «Заклинатель змей» (1954) повествователь, хорошо изучивший воровской мир, думает о том, что «есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека» [11, с. 80]. Это заключение вполне подтверждается давним тезисом Аристотеля, приводимом в середине XX века К. Ясперсом в связи с бедственными событиями мирового масштаба: «Человек может <…> быть только чем-то бóльшим или меньшим, чем животное» [14, c. 227].
Литература
1. Демидов, Г.Г. Чудная планета: рассказы / Г.Г. Демидов; сост., подгот. текста, подгот. ил. В.Г. Демидовой; послесл. М. Чудаковой. М.: Возвращение, 2008. 360 с.
2. Дрейден, С.Д. Каторжанин 50-х / С.Д. Дрейден // Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 4: от имени живых... / авт.-сост. З. Дичаров. СПб.: Просвещение, 1998. С. 114–128.
3. Иванов, Вяч. Вс. Аввакумова доля / Вяч. Вс. Иванов // Избранные труды по семиотике и истории культуры: статьи о русской литературе. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 738–744.
4. Каверин, В.А. Литератор: дневники и письма / В.А. Каверин. М.: Советский писатель, 1988. 304 с.
5. Кожинов, В.В. Россия. Век XX-й (1939–1964): опыт беспристрастного исследования / В.В. Кожинов. М.: Алгоритм, 1999. 400 с.
6. Мандельштам, Н.Я. Вторая книга: воспоминания / Н.Я. Мандельштам. М.: Олимп, Астрель, АСТ, 2001. 512 с.
7. Томпсон, Д.Э. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти / Д.Э. Томпсон; пер. с англ. Н.М. Жутовской и Е.М. Видре. СПб.: Академический проект, 2000. 346 с.
8. Трубецкой, Е.Н. Два зверя. Старое и новое / Е.Н. Трубецкой // Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 292–332.
9. Хёйзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хёйзинга; пер. с нидерл., общ. ред. и послесл. Г.М. Тавризян. М.: Прогресс, 1992. 464 с.
10. Чехов, А.П. Из Сибири / А.П. Чехов // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: Наука, 1987. Т. 14–15. С. 5–38.
11. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит., 1998. Т. 1. 620 с.
12. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит., 1998. Т. 2. 509 с.
13. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит., 1998. Т. 4. 494 с.
14. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; пер. с нем. М.: Республика, 1994. 527 с.
Глава из книги «Каторжная Колыма и поэтика памяти» опубликована в авторском сокращении специально для сайта shalamov.ru.
Примечания
- 1. Литературовед Ю. Оксман после возвращения с колымской каторги рассказывал В. Каверину о впечатлении воров от романа «Конец хазы». В связи с этим В. Каверин писал: «<…> уголовники совершенно уверены, что мой юношеский роман “Конец хазы” написан “одним из наших” (т.е. воров. — Ч.Г.)» [4, c. 134]. Вероятно, это было предметом некоторой гордости автора романа.
- 2. Впрочем, кому-то и «опыт беспристрастного исследования» В. Кожинова может показаться пристрастным.
- 3. Т.е. “отверженными” (зд. “блатными”) — по названию романа Гюго “Les misérables”.
- 4. Рассказчик акцентирует внимание на семантическом различии между нейтральным словосочетанием честная игра и оксюморонным — честная воровская игра.
- 5. Крестик на шее Наумова вовсе не символ религиозной веры, но служит опознавательным знаком блатного ордена, как, впрочем, и ноготь мизинца Севочки.
- 6. Почти по итальянской поговорке: «Non è si tristo cane, che non meni la coda» («Нет такой угрюмой собаки, которая не виляла бы хвостом»).
- 7. И как вскоре окажется не только свитер, но и сама жизнь (жизнь или свитер — такой вот «барачный аллиозис»).
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.