
Части 14 — 18
Часть 14
Итак, 15 мая 1937 года меня вывели из камеры «с вещами» (которых не было). Привели в одну из комнат канцелярии тюрьмы, где молодой человек в форме с одним кубиком в петлицах заявил: «Прочитайте и распишитесь». Это было решение особого совещания НКВД СССР буквально следующего содержания.
 |
| И.П. Хренов. 1936 |
«Гражданина Выгона Моисея Евсеевича, 1915 года рождения, белоруса, за антисоветскую агитацию и незаконно хранимое оружие приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием в ИТЛ. Срок наказания считать с 15 января 1937 года».
Я подписал: «С решением особого совещания ознакомлен, считаю его незаконным». Прочитав мои замечания, энкавэдэшник аж побагровел и воскликнул: «Такой наглости еще не было». И с остервенением стал зачеркивать все написанное — кроме подписи. Крикнул: «Уведите!» Так закончилось следствие по моему делу.
Привели меня в просторное помещение. Нары находились на одной стороне. На них сидели только четыре человека, из которых выделялся один, немного выше среднего роста, полный, круглое лицо светилось добротой, По внешнему виду ему было около сорока лет. Ошеломленный приговором, когда закрылась дверь, я молча остался стоять на месте. Очнулся от негромкого мягкого зова: «Проходите, молодой человек, присаживайтесь и успокойтесь. Вы не одни. Я — Хренов Иулиан Петрович, а проще — Ян. Итак, чем вас наградили за активную молодость?» Не знаю, почему, но поверил этому человеку. Это была мужская привязанность с первого взгляда. Рассказал ему быль своей короткой, полной, как мне казалось, активной, осмысленной жизни, о своей убежденной вере в коммунистические идеалы. И каждый раз задавал ему, такому же, как я, отверженному, но более опытному и знающему, один и тот же вопрос: «Почему? Что случилось? К чему мы идем?» Он грустно улыбался и отвечал: «Не знаю».
Часть 15
 |
| И.П.Хренов. 1915 |
Ян Хренов рассказал мне о своей яркой жизни коммуниста. Он родился в 1901 году в поселке Лежнево Ивановской области в семье фельдшера, закончил Ковровское реальное училище. Революция застала его еще мальчишкой, и он безоглядно принял ее идеалы. Гражданскую войну провоевал в 13 и 14 армиях. Вступил в партию. После гражданки закончил Ленинградское высшее инженерное морское училище. Плавал. Затем по заданию партии работал на крупнейших стройках страны.
В 1926 г. его приятели, Осип и Лиля Брик, познакомили его с В. Маяковским. Они сошлись, во времена краткосрочных отпусков и командировок встречались. Судьба привела его на Кузнецкстрой — он стал одним из руководителей строительства металлургического гиганта. Грандиозность замыслов, энтузиазм строительства настолько владели им, что во время одной из встреч с Маяковским он буквально заразил ими поэта. Так появилось знаменитое стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка», опубликованное в 1929 году. Потом были и другие, не менее важные для страны стройки. Последняя его должность — директор Славянского арматурно-изоляторного завода.
Однажды, на одном из дискуссионных собраний, он поддержал некоторые моменты из платформы Троцкого о роли профсоюзов, т. к. считал, что профсоюзам надо дать больше прав по управлению производством на предприятиях, и его, очевидно, в НКВД зачислили в сторонники троцкизма, несмотря на то, что потом он неоднократно признавал эту свою ошибку. Тем временем он с полной отдачей работал везде, куда его направляли — на Кузнецкстрой, в Краматорск — стремился быть «коммунистом ленинского типа», т. е. забывать о себе во имя общего дела (таким я тогда по наивности представлял себе Ленина). Потом был донос первого секретаря Славянского горкома партии о дружбе Хренова с Примаковым и Тухачевским. В отличие от многих, ни одного обвинения в свой адрес он не подписал и, как ни старались следователи, никаких «соратников по троцкистской деятельности» не назвал.
 |
| И.П.Хренов. Ленинград. 1925 |
 |
| И.П.Хренов (крайний слева). Берген. 1926 |
 |
| Семья Хреновых (Мария Ильинична, Елена Иулиановна (Яновна), Иулиан Петрович). Москва. 1929 |
 |
| И.П.Хренов (крайний слева). Крамоторск. 1934 |
 |
| И.П.Хренов с дочерью Еленой. Москва. 1930 |
Мы решили по мере наших скудных возможностей держаться вместе, затем нас надолго разлучили, сначала до августа 1937 года, а потом еще на 7 лет. В 1944 году мы снова встретились на колымском прииске «Туманный». В 1944 году я уже был вольным, а он — бригадиром самой лучшей ударной бригады заключенных, работал на шахте по добыче золотоносных песков. В конце 1944 года Яна Петровича освободили за ударный, самоотверженный труд, а между тем срок заключения истек еще в 1941 году. В общем, облагодетельствовали. Ян Петрович пользовался большим уважением не только среди заключенных, но и у руководства прииска. Начальником прииска был бывший партийный работник Ткаченко. Он назначил Хренова начальником подземного участка, а меня — его заместителем. Мы были единомышленниками. Наша дружба укреплялась. Впоследствии, но, к сожалению, уже без него, мы стали родственниками, так как в 1948 году я женился на его дочери, Леночке, которая мне очень понравилась еще школьницей, когда приехала из Москвы на Колыму к отцу вместе с матерью — Марией Ильиничной и младшей сестрой Наташей.
 |
| Елена Хренова. Москва. 1948 |
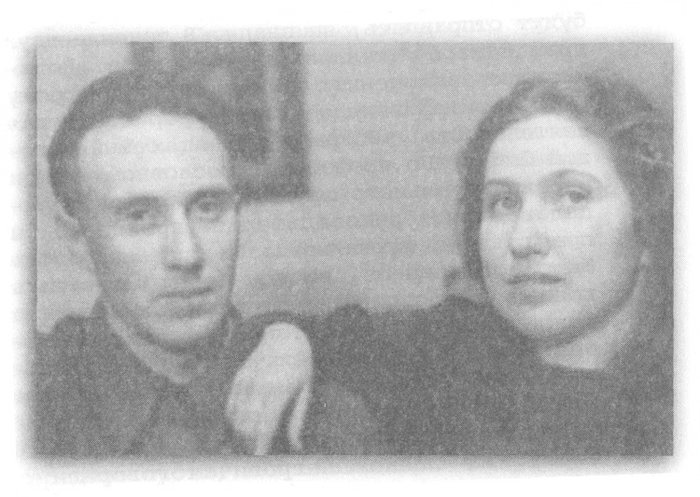 |
| Михаил и Елена Выгон. 1948 |
Часть 16
Наша камера называлась этапной. Куда нас будут отправлять, не знали. В течение двух дней камера заполнилась до отказа. Большинство заключенных получили формулировку КРТД (контрреволюционная террористическая деятельность). Возраст разный, самый молодой был я. По профессии в основном — люди интеллектуального труды: профессора, преподаватели, руководители учреждений и предприятий, журналисты. Настроение у всех было подавленное, но все-таки радовались концу мучительного следствия. Размышляли о новой жизни, на что-то надеялись. Удивительно устроен человек. При всех обстоятельствах и даже весьма мрачных, он всем своим существом надеется на лучшее. И где-то видит светлые огоньки. Лежа рядом на нарах, мы с Яном Петровичем говорили о прошлом, однако, он верил, что день свободы наступит, и вселял в меня такую же веру. Ян мог бесконечно рассказывать о своих горячо любимых девочках — Леночке и Наташе — и о своей преданной жене — Марусе.
Наступил день, когда приказали всем собраться с вещами. Мы поняли, что всей командой отправляемся на долговременное местожительство. Но куда, и какова будет эта жизнь? Нас вывели в тюремный двор, построили в шеренгу по два человека и в две колонны: одна — из осужденных по КРТД, другая — по АСА (антисоветская агитация).
В «черных воронах» нас привезли на какой-то глухой полустанок под Москвой. Хотя о дне отправки никому не сообщали, на путях стояли толпы людей, которые выискивали своих родных. Они неделями дежурили, чтобы хоть издали повидать своих мужей, братьев, матерей, и кидали на пути между шпалами конверты с вложенной внутрь бумагой — для письма. Бумага с конвертами валялась на платформах и в других местах. Один конверт попал и мне. Стоять нам не разрешалось. Посадили на землю, затем велели стоять на коленях. Подошел состав товарных вагонов, в которых возят скот. Со всех сторон нас окружили конвоем с немецкими овчарками и выкрикивали фамилии с командой: «Лезь в вагон». Моя фамилия была в середине списка. Залез в вагон — места на нарах еще были. Всего загнали в вагон сорок человек. Нары в два ряда были по обеим сторонам, в середине пусто, напротив двери — дыра для отправления естественных надобностей. Женщин загоняли в отдельные вагоны такого же образца. Все разместились впритык друг к другу. Когда закрыли двери вагона, возникла нестерпимая духота. Эшелон все не отправлялся. Ждали наступления темноты. Все, у кого оказались конверты, стали искать, чем писать. Оказалось, несколько человек умудрились пронести огрызки карандашей. Тогда стали писать по очереди. Я написал сестре Доре короткое письмо, в котором сообщил, что ни в чем не виноват — пусть никому не верит, что получил пять лет заключения и повезли меня, еще не знаю куда. Также просил связи со мной не искать и посылал прощальный привет. Конверт с письмом бросил на пути после отхода поезда. Уже после возвращения в Москву, в 1948 году, я узнал, что добрые люди доставили письмо Доре примерно через неделю после отправки.
Часть 17
Начался новый этап в жизни — путь к новым тяжелейшим испытаниям. Законы этапного эшелона мне были неизвестны. Уголовников с нами, к счастью, не было. Пожилые, истерзанные люди задыхались. В вагоне, казалось, воздуха нет, пыль лезла во все мельчайшие щели. И над всем этим — постоянный стон. Под утро поезд остановился на запасных путях. Открыли двери, и конвойные потребовали двух человек за сухим пайком. Пошел я с другим еще крепким мужиком. В вагоне в конце состава, где хранилось наше питание, нам выдали продукты на три дня: по буханке черного черствого хлеба, по шесть ржавых селедок и по три кусочка сахара. Кипяток, сказали, будет отдельно. Непередаваемо, сколько мучений принесла нам эта еда. Теплой воды под названием «кипяток» давали по ведру на сорок человек один раз в сутки. Глоток холодной воды стал недосягаемой мечтой, особенно тяжело было днем — духота, жажда, вонь, хрипы, вой в совокупности создавали атмосферу настоящей душегубки. На вторые сутки два человека в возрасте около пятидесяти лет не выдержали, скончались, как сейчас говорят, от кислородной недостаточности. Фамилии и профессии их не знаю, не до знакомства было в вагоне. Смерть людей взволновала начальника охраны. Очевидно, такие случаи были и в других вагонах. Положение несколько облегчили, при остановках стали открывать двери, перестали выдавать селедку. На стоянках около крупных городов к нашему поезду со всех сторон стекались люди и бросали в открытые двери вагонов пакеты и тщательно завязанные узелки со шматками сала, крутыми яйцами, хлебом. Не все из них долетали (близко к поезду не подпускал конвой), и половина оставалась на земле. После проверки содержимого пакетов солдаты все же отдавали продукты в вагоны.
Поезда с заключенными на Восток шли ежедневно, и у значительной части родные оказались репрессированными. Они выражали нам свое сочувствие, чем могли. С этим я встречался во все время нахождения в лагерях. За исключением «Серпантинки» (об этом уголке красивой природы разговор особый). Путешествие в телячьих вагонах, которое от Москвы до Владивостока длилось 33 дня, было самым тягостным, можно без преувеличения сказать, кошмарным.
На восьмые сутки рано утром мы прибыли в Красноярск. Нам объявили, что поведут в баню. Шли последние дни мая, солнце уже взошло. Вокзала не было видно, так как эшелон стоял на запасных путях, где никто не ходит. Выводили повагонно, наша очередь подошла примерно к десяти утра. Когда мы вышли из вагона, неподалеку стояли толпы людей, неродные и незнакомые. Солдаты к нам не подпускали, и они молча — знаками, выражением глаз — приветствовали нас, но подавать голос боялись. Нас построили и в сопровождении собак повели по каким-то боковым улицам, но и там стояли люди, бросали узелки с продуктами, хлеб, а некоторые — цветы. Мы все подтянулись, несмотря на категорические запреты, махали руками, многие плакали, и у меня щемило в груди. Шедший рядом со мной Хренов ни разу не нагнулся, чтобы что-нибудь поднять. Он молча вглядывался в лица. Лишь в бане, куда нас привели, сказал: «Теперь ты убедился, что мы не враги народа и никогда ими не будем». Мытье в бане регламентировалось 30 минутами на вагон. Было пять или шесть душевых кабин. Как радовались горячей воде! Вот ведь и в таких жутких условиях человек находит минуты радости. После мытья без мыла нам выдали номерное нижнее тюремное белье.
На обратном пути наш путь на станцию был оцеплен солдатами войск НКВД, и всех встречающих разогнали. Из местной тюрьмы привезли перловый суп и кашу — праздничный в дороге обед.
Тридцать три дня были в пути. За это время еще пять человек были сняты с поезда, из них один скончался, а четыре человека отправлены в тюремную больницу в городе Иркутске. Власти опыт Красноярска учли, на станциях остальных городов было пусто. Изменили расписание прибытия — останавливались ночью. В Чите нас отправили в пересыльную тюрьму. Просидели там восемь дней. Пересылка была настолько переполнена, что спать в камерах можно было только по очереди. Здесь часть заключенных после рассортировки направлялась в восточные лагеря. Пока среди нас находились одни политические, уголовников к нам не присоединяли. Как потом выяснилось, за этот «либерализм» тюремная администрация была наказана.
Наступил последний отрезок этапного путешествия по земле российской. Нас привезли в город Владивосток. До этого в Чите из нашего вагона из-за немощи высадили еще шесть человек. Таким образом, из сорока человек до Владивостока добралось только двадцать семь. Всего в составе поезда было 23 вагона — колонна заключенных получилась большая. Пересыльный лагерь находился в ущелье между гор вдали от моря. Это был поселок из больших брезентовых и дощатых бараков, опоясанный многорядной колючей проволокой, с вышками на расстоянии 50 метров друг от друга. В бараках заключенные распределялись по статьям: «контрики» отдельно, затем воры: «аристократия», «суки» (это те, которые во время следствия выдавали своих сообщников), «придурки», «фраера» и также отдельно — убийцы и дерзкие грабители. Между бараками шли кровопролитные драки, в основном убивали «сук».
Нашу колонну встретила огромная толпа уголовников с воплями «бей троцкистов» и матерной бранью. Эта глупо организованная администрацией инсценировка развеселила Яна Петровича. Смеясь, он заметил: «Если тебя ругают подонки, ты прав». Но тут же предложил организовать группу из наиболее физически сильных людей для самообороны. Ночью мы убедились, что эта мера была весьма своевременной: уголовники попытались напасть на наш барак, но получили должный отпор. Надо сказать, что многие из них потом оказались в бригаде Хренова и в моей бригаде и стали там нормальными людьми. После этой ночи в бараках политические организовывали суточные дежурства, чтобы не подпустить к себе уголовников.
Как потом я понял, это был типовой лагерь, построенный по общему проекту. Он был огорожен двумя рядами столбов, опоясанных колючей проволокой. По углам установлены десятиметровые вышки, а через каждые 50 метров вышки поменьше. На них охрана с заряженным оружием и приказом «стрелять на поражение без предупреждения при подходе ЗК к ограде». По ночам на вышках включались прожектора. Внутри лагеря по прямой построены дощатые бараки, покрытые брезентом, с полом из неотесанных досок и двухъярусными нарами вдоль стен. Посреди барака большая железная бочка-печь, у входа огорожена комнатка для старшего по бараку, обязательно из уголовников. Вдоль стен на уровне второго яруса протянута толстая веревка для сушки одежды, штанов и ватников, распространяющих невыносимую вонь. Якобы для поддержания чистоты, из числа слабосильных назначались дежурные по бараку. Раз в неделю по ночам проводился «шмон» — обыск личных вещей и самого барака. В 6 утра колоколом возвещался подъем, в 20 — развод. За линиями бараков (как правило, 4-5 линий, по три барака в каждой) размещался отдельный страшный барак РУР (рота усиленного режима), куда сажали за лагерные провинности: отказ от выхода на работу, донос надсмотрщика на плохую работу, грубые ответы надзирателю и т. д. Мне в дальнейшем пришлось там побывать.
Этот пересыльный лагерь был последним, где мы были отделены от уголовников. Здесь проводился формальный медосмотр, старых и больных отделяли, но это не касалось «лиц с клеймом» («Лицами с клеймом» назывались заключенные, у которых в формулярах были специальные шифры, которые означали, как с этими ЗК обращаться в тюрьме или в лагере: например, может использоваться только на общих или только на тяжелых физических работах; особо опасен — требует усиленного конвоя. Как правило, эти спецуказания касались бывших крупных партийных и государственных работников, осужденных за «контрреволюционную деятельность»).
Мы уже знали, что нам предстоит путешествовать по Охотскому морю на далекую, овеянную жуткими легендами «Колыму». Ожидали грузопассажирский корабль «Кулу».
В лагере мы пробыли более двух недель. На работу не водили. По сравнению с тюрьмой жизнь протекала намного лучше. Кормили три раза в день: хлеба давали по 600 грамм в сутки. Был отдельный туалет, куда можно было ходить в дневное время без ограничений.
В пересылке мы узнали о казни группы Тухачевского, о массовых арестах командного состава Красной армии. Понять причины таких мер тогда было невозможно. Ходили слухи о совершившемся перевороте, но мысли о собственной судьбе преобладали над всеми другими и казалось, что в нашей родной стране воцарилось безумие. Кто дирижировал вакханалией, мне тогда было не понять. Но мозг не мог успокоиться, проблески истины появлялись. А впереди была каторга во имя социалистической родины. С Я. П. Хреновым мы были вынужденно разлучены.
Часть 18
Теплоход «Кулу», наконец, был готов принять узников в чрево своих трюмов. Нас разбили по ротам в сто человек. Администрацией назначался староста из заключенных-уголовников с бандитской статьей и специальной охраной (Спецохрана выделялась для уголовников, совершавших до этого побег).
В двухэтажных трюмах сколотили двухъярусные нары, в самый нижний трюм загоняли «контриков». На втором этаже разместились «друзья народа». В трюмы все ЗК не уместились и тогда для оставшихся организовали «загон» на палубе. Как потом оказалось, это были «счастливчики», так как внизу люди буквально задыхались и их, во избежание удушья, выводили по очереди на 15 минут наверх. Самым мучительным стало исполнение естественных надобностей — уборные планировались из расчета 100 человек на очко, и очереди были непрерывно круглые сутки. Кормили один раз в день жидкой баландой и выдавали строго по норме 600 граммов хлеба и 200 граммов воды на человека.
Верующие молились, чтобы не штормило, но даже при более или менее спокойном море у многих начиналась рвота, и все изрыгалось тут же на соседей, а деваться было некуда. Физические страдания, моральная подавленность, казалось, не располагали к каким-либо добрым чувствам, но взаимное участие существовало, люди помогали друг другу, чем могли.
Суровый нрав Севера мы почувствовали на четвертый день плавания. Наш теплоход попал в настоящий шторм, его стало бросать как игрушку по волнам, все люки были задраены, в трюмах людей швыряло друг на друга. Смрад и зловоние от расплескавшихся нечистот были невыносимы. Людей с палубы тоже загнали в трюмы, что еще больше усугубило страдания. Ужас абстрактных адских мук здесь оказался воплощенным наяву. Люди умирали от удушья и захлебывались в нечистотах. Прежде всех не выдерживали старики. Однако большинство все же выжило. Велики человеческие возможности, способность к приспособлению и преодолению страданий. После шторма оставшиеся в живых выползали на палубу дышать по двадцать минут в день. Наконец, закончился «медовый месяц» путешествия. Мы счастливы были тем, что остались живы. Оказывается, измученный человек ощущает блаженство от уменьшения страданий. То, что казалось невыносимым в первый день морского пути, под конец стало обыденным. Притерпелись.
Корабль пришвартовался к пирсам бухты Нагаева, и после многочасового ожидания нас стали выводить на берег. Мы увидели пологую отмель с нависающей выветренной горой, серый и унылый пейзаж. Выстраивались по узкой дороге вдоль сопок. Шеренга вытянулась на несколько километров и потянулась в пересыльному Магаданскому лагерю. Магадан еще не стал городом, его улицы были застроены длинными двухэтажными бревенчатыми домами, бараками, обшитыми тонкими досками. Изредка среди них стояли, как острова, каменные дома. Людей на улицах было мало, на колонны заключенных никто не обращал внимания, — большая часть местных жителей состояла из расконвоированных, и картина для них была привычная. Головная часть колонны подошла к лагерю и остановилась. Вечером началась проверка списков и пропуск за ворота. Прошедшие эту процедуру, направлялись сразу в баню. Я добрался до желанной мыльни утром следующего дня. Здесь сбросил свою одежду, которая подлежала сожжению.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.
 Назад
Назад