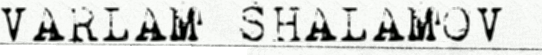
Что завещал Ленин и что — Шаламов?
О сериале «Завещание Ленина».
Запоздалые заметки шаламоведа
Когда в России в последние годы громко, на всю страну, звучало имя В. И. Ленина? И в каком семантическом или, извините за выражение, идеологическом ракурсе?
Телевизионный сериал «Завещание Ленина», снятый по произведениям В. Т. Шаламова, оказался первым, авторы которого осмелились прямо напомнить об имени вождя большевиков и косвенно — о его заветах. Уже поэтому, ввиду своих откровенно полемических интенций, сериал заслуживал куда более серьезного внимания и анализа, нежели ему было посвящены — и не только со стороны киноведческого цеха, но и со стороны историков, социологов и культурологов. Автор может коснуться лишь некоторых проблем, затронутых фильмом, — в той мере, в какой они относятся непосредственно к Шаламову и его биографии, а также и там, где они, по воле авторов сериала, явно выходят за эти рамки. Полагаю, что вечный вопрос об экранизациях и их методах в данном случае особенно актуален.
Отряд не заметил...
Судя по всему, в том числе по откликам в Интернете, внимательных зрителей у этого сериала было немного. И во время премьеры, которая состоялась в прайм-тайм на государственном телеканале «Россия» накануне 100-летия В. Т. Шаламова, в июне 2007 года, и во время утренних повторов в декабре 2009-го. Что ни говори, а сериалы собирают специфическую аудиторию. И если можно с уверенностью утверждать, что домохозяйки этот фильм пропустили как слишком «тяжелый», «про политику и лагеря», то в кругу серьезного, думающего зрителя (которому и адресован сериал), полагаю, нашлось не так много энтузиастов, которые пунктуально просмотрели все 12 серий. Не потому, что неинтересно или лень, а потому, что некогда! Наш серьезный современник, какого бы возраста он ни был и чем бы ни занимался в жизни, вынужден чрезвычайно дорожить своим свободным временем. Он охотно посмотрит фильм в старом добром формате — час с небольшим, в крайнем случае, два часа (наивно веря, что о важном можно сказать и кратко). Соответственно, узнав о фильме по Шаламову, он смог присесть к телевизору, пожалуй, лишь на несколько серий, чтобы составить общее представление о картине.
В данном случае воспроизвожу, увы, и собственную ситуацию. Каким бы особым ни был мой интерес ко всему связанному с именем Шаламова, в свое время «Завещание Ленина» целиком увидеть не удалось. Лишь недавно, купив диск DVD и выкроив наконец несколько вечеров, я внимательно, поэпизодно просмотрел весь сериал. И сделал множество новых — в добавление к уже имевшимся от первого просмотра — открытий, которые дали основание изначально оценить сериал весьма сдержанно.
В итоге его подробный анализ и размышления в связи с его появлением получаются запоздалыми, но, надеюсь, небесполезными.[1] Особенно в свете тех неумеренных восторгов, которые расточали околокиношная публика и пресса по адресу фильма Николая Досталя и Юрия Арабова при его премьере. Напомню, что создатели сериала были удостоены высших российских телевизионных и кинематографических наград — «Тэфи», «Золотого орла» и «Ники». Один из этих призов (что стало для меня опять же запоздалой, но символической новостью, отловленной в Сети) вручал создателям фильма не кто иной, как бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР М. С. Горбачев, попавший в очередной раз под вспышки софитов (но вряд ли смотревший сериал).
Не смея подвергать сомнению демократические устремления инициатора перестройки и компетентность членов жюри конкурсов, полагаю, что главную роль в звездопаде, обрушившемся на эту картину, сыграли все же факторы внехудожественные, прежде всего — его тема. Очевидно, что он заполнил одну из пустот современного отечественного кинематографа и тем самым откликнулся на своего рода социальный заказ.
Если говорить откровенно, то заказ можно назвать и государственным. Это было заметно уже по весьма активной PR-кампании анонсирования сериала, что было бы невозможно без соответствующей команды сверху. Не случайно еще за месяц до премьеры журнал «Искусство кино» (2007, № 5) опубликовал материалы круглого стола, посвященного «Завещанию Ленина». Очень примечательна была преамбула главного редактора журнала Д. Дондурея к этой беседе:
«На последнем Берлинском кинофестивале четыре из четырнадцати конкурсных лент были посвящены теме фашизма, переосмысления и активного переживания, казалось бы, уже проясненной у немцев проблемной области. Причем, все картины сделаны в стандартах массовой культуры, для широкой аудитории... Почему же, — спрашивал редактор и критик, — величайшая трагедия нашего народа — тотальные репрессии сталинизма — чуть ли не табуирована?»
То есть можно предполагать, что «наверху» новый сериал рассматривался как одно из средств борьбы с наследием сталинизма, которое до сих постоянно дает о себе знать в России, выплескиваясь и в заявлениях лидеров КПРФ, и в широком распространении всякого рода бульварной литературы, восхваляющей Сталина (причем она заняла свою прочную нишу и в Интернете), и проникая даже на телеэкран — примером здесь может служить скандально известный сериал «Сталин. Live». Эту утилитарно-пропагандистскую, точнее — уже контрпропагандистскую роль фильма Н. Досталя и Ю. Арабова подчеркнул его демонстративный повтор в декабре 2009 г., накануне 130-летия со дня рождения Сталина, которое активно отмечали наши ностальгирующие по «железной руке» современники (хотя историки давно установили, что Сталин на самом деле родился в 1878 году, его поклонники никак не желают отказываться от вошедшей в подсознание канонизированной даты).
Надо учесть и то, что на Западе все чаще с тревогой говорят об этих тенденциях в умонастроениях нашего общества, а иногда и попросту спекулируют на них, стремясь создать негативный образ России как страны «невыученных уроков». Например, весьма усердствует в этом известная американская исследовательница темы ГУЛАГа (она занимается и Шаламовым) А. Апплбаум. С прямолинейностью, свойственной ее видному предшественнику в области россиеведения и советологии Р. Пайпсу, она постоянно твердит в своих статьях и выступлениях (в том числе в России) о «равнодушии» наших соотечественников к трагическим страницам своего прошлого, об отсутствии «покаяния» и т. д.
Подобные инвективы вызывают в душах некоторых представителей нашей творческой интеллигенции соответствующую рефлексию. С этой точки зрения, новый сериал можно рассматривать как отчет наших кинематографистов перед Западом и перед своей либеральной совестью...
Казалось бы, какая-либо ирония в данном случае неуместна, а сомнения в исключительном благородстве намерений создателей сериала вовсе кощунственны. Все бы верно, если бы фильм давал повод лишь для столь однозначного, исключительно антисталинистского толкования, если бы в нем не были заявлены очевидные претензии на нечто большее — на широкие исторические обобщения, на то, чтобы стать не только сагой о судьбе Шаламова, но и своего рода эпопеей о русском ХХ веке. Странно, что критики не заметили этих претензий, как не заметили и явно кощунственных подмен, затрагивающих суть общественной и эстетической позиции автора «Колымских рассказов». И если даже такой авторитетный и проницательный телеобозреватель, как Ирина Петровская в «Известиях» и всех других доступных ей СМИ рекомендовала его зрителям как «знаковое событие», «замечательное и очень значительное кино», то можно предполагать, что она — при ночном бдении во время просмотра копии фильма еще до премьеры (о чем она поведала «Эху Москвы») — все же была недостаточно внимательна к основным авторским акцентам сериала, выводящим его за круг собственно шаламовского.
Самое странное, что критики совершенно обошли вниманием эстетику фильма, которая, на первый взгляд, кажется сугубо реалистической, даже с элементами документализма, а на самом деле — по крайней мере, в наиболее важных смысловых сценах — представляет, по моему мнению, типичнейший образец так называемого постмодернизма с его снижением всего и вся, со всевозможными цитатами и каламбурами, с меланхолической иронией, с вызывающей провокативностью и даже цинизмом. Не верите? Пройдемся по наиболее характерным страницам сериала и поразмышляем.
Что же все-таки завещал Ленин?
Начнем с названия, точнее — с озвученной и титрованной кинозаставки, которая предваряет каждую из двенадцати серий.
Безымянное лагерное кладбище под заснеженной сопкой. Камера отъезжает от могильного столбика с жестяной из-под консервов, биркой и медленно выходит на панораму, сплошь усеянную такими же столбиками. За кадром под резкие удары фортепиано звучат (голосом актера Игоря Класса) известные слова Шаламова:
«Были ли мы? Отвечаю: “были” — со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа».
Сразу после «картинки» кладбища на экране выплывает название сериала — «Завещание Ленина», снабженное через кадр подзаголовком «по произведениям Варлама Шаламова».
Если бы эта заставка не повторялась двенадцать серий подряд, на ее очевидную игривую, каламбурную двусмысленность (которая и дает повод говорить о цинизме), пожалуй, можно было бы не обратить внимания. Но надо быть поистине расслабленным в кресле у телеящика, чтобы после очередного, вдалбливаемого в голову повтора не понять, наконец, что хотели сказать здесь авторы. А сказали они — своей смелой комбинацией кладбищенских столбиков и названия сериала — на мой взгляд, следующее:
«Завещание Ленина — это лагеря, это бесчисленные безымянные могилы по всей стране. И именно об этом писал Шаламов. Мы так прочли его произведения».
В это, кажется, трудно поверить (как пропустили такую крамолу??! — возмущались бы добровольные цензоры еще лет двадцать назад), но иных толкований комбинация в заставке, увы, не дает. Ее по праву можно назвать комбинацией из трех пальцев, показанной на всю страну всем, кто, по замыслу авторов, по-прежнему питает иллюзии относительно исторической роли Ленина. А Шаламов тут не при чем — его, грубо говоря, использовали.
Сужу об этом с полной уверенностью, во-первых, потому, что экстравагантностью (или, точнее сказать, экстремизмом) в интерпретациях истории и литературы ныне никого не удивишь — мы живем, к несчастью, в такую эпоху, когда поистине, по Достоевскому, «все позволено» и самым актуальным из произведений великого писателя стал «Бобок» с его плясками на могилах и истерическими возгласами «заголимся и обнажимся»...
Во-вторых, основания для констатации цинизма уже в названии сериала «Завещание Ленина» дает предыдущая деятельность сценариста Ю. Арабова, прежде всего — его соавторство (вместе с А. Сокуровым) в известном фильме «Телец» (2001 г.). Вот где впервые был явлен миру политический постмодерн в его российском садомазохистском изводе: авторы решились показать больного, умирающего Ленина — со сладострастным смакованием деталей заведомо объяснимой неприглядности этой картины, которая приносила огромные страдания родным и друзьям и доныне заставляет всех нормальных людей отворачиваться от нее. Хотя имени Ленина в фильме не называлось, только слепой не мог понять, о ком идет речь. И несмотря на все туманные объяснения авторов, что фильм — «метафизический», реальность тут сквозила в каждом кадре. Очевидно, что прикрытие библейскими символами маскировало иную, гораздо более радикальную коннотацию — создатели «Тельца» проводили незамысловатую идейку о том, что страшный конец жизни Ленину достался поделом, что такова участь всех «людей власти», всех «тиранов». Если учесть, что предыдущий фильм этого цикла Ю. Арабова и А. Сокурова «Молох» был посвящен Адольфу Гитлеру, то можно догадаться, как далеко зашли современные модные «мастера культуры» в своих виртуальных расчетах со всей историей ХХ века. То, что «Телец» был обласкан в России перворазрядными кинематографическими призами и даже Государственной премией, а на извечно ангажированном Каннском фестивале Ю. Арабов был удостоен приза за лучший сценарий, — уже не удивительно. Также не удивительно, что для широкого показа этого фильма на отечественном ТВ хозяевами эфира было выбрано безопасное полуночное время — появись он в прайм-тайм, еще неизвестно, как бы среагировала на него многомиллионная аудитория, сохранившая о Ленине совершенно иные представления...
Об этом расколе между «продвинутым» (в смысле метафизических фантазий) сознанием некоторых представителей интеллектуальной элиты и сознанием «быдлятника» (так, от слова «быдло», принято именовать в киносреде массового зрителя, и Ю. Арабов тоже употребляет этот термин в одном из своих интервью) — еще придется порассуждать. Нас в данном случае занимает другое, а именно — внутренняя связь, своего рода преемственность «Тельца» и «Завещания Ленина». Очевидно, что Ю. Арабову было невозможно отказаться от взятой на себя роли ниспровергателя «идолов» и «тиранов», и он, в меру отпущенных ему новой темой возможностей, заявил — где-то намеком, с пресловутым с кукишем в кармане, где-то прямо (этого тоже еще придется касаться) — о не нравящейся ему (ну, не нравится — и все!) революции 1917 года, о тех, кто ее осуществлял, и тех, кто в нее горячо верил.
А что же Н. Досталь? Режиссер-постановщик фильма оказался, скажем так, по-интеллигентски не слишком самостоятелен — в большинстве случаев он следовал идеям и тексту мастеровитого, увенчанного лаврами Канн сценариста буквально.
Могу это утверждать, поскольку у меня есть на сей счет личное и вполне достоверное свидетельство: в свое время (в период съемок фильма в Вологодской области, питая поначалу искренний интерес к сериалу «по Шаламову») я имел возможность прочесть несколько частей сценария. Никаких сомнений в уместности и правомерности названия сериала режиссер уже тогда не высказывал. А у меня эти сомнения изначально возникли, и я не мог не поделиться ими в беглой беседе с Н. Досталем в перерыве между съемками. Диалог был как раз о двусмысленности названия.
— С одной стороны, понятно: Шаламов пострадал, был в первый раз арестован за распространение «Завещания» Ленина, его известного письма съезду с опасениями по поводу передачи власти Сталину, — говорил я. — Но название можно прочесть и по-другому: «Завещание Ленина» — это лагеря, в которых сидел Шаламов?— А что? — спокойно и быстро (очевидно, будучи готов к такому вопросу) ответил Н. Досталь. — На эту тему уже много литературы...
Полемизировать с режиссером я тогда не стал — было бы слишком горячо и долго. Успел лишь посоветовать — нахально вмешиваясь в авторский (соавторский) замысел — сменить название сериала на «Завещание Шаламова»...
Теперь, когда все (в том числе позиция режиссера) окончательно прояснилось, полемику можно продолжить. Но нужна ли она? Спорить ли о том, что на самом деле завещал Ленин? На языке здравого исторического смысла и строгих наук — говорить с людьми, которые заведомо убеждены, что их язык — язык кино — гораздо глубже и тоньше (иначе зачем бы они выбрали свою профессию)? В конце концов, можно было бы сказать просто: «Господа, мы с вами читали разные книжки, а если читали что-то общее — то по-разному». И добавить, что литература («книжки») играет в жизни и в искусстве отнюдь не главную, хотя и важную роль — именно в той мере, в какой она соотносится с более важным и первостепенным, с тем, что можно назвать реальностью, эмпирикой или «сермяжной правдой жизни».
Источники вдохновения, так же как и источники «нового миросозерцания» авторов сериала (а они тут далеко не одиноки — речь идет о новой идеологической парадигме, складывающейся, но никак не могущей окончательно сложиться в России после 1991 г.) — очевидны. Этот мощный водопад запрещенных при советской власти книг, который обрушился на страну со времен официально провозглашенной гласности, и привел многих наших неустойчивых сограждан к «прозрению» и «коренному переосмыслению» всего того, что пережили они сами, их отцы, деды и более отдаленные поколения. Нельзя сказать, что в этом водопаде, как у Державина, не было множества подлинных изумрудов, напомнивших о вечных ценностях человеческого бытия и об узости «советского проекта» для многоцветного мира (что осознавалось и большей частью тогдашнего населения СССР). Но многим людям оказалась теплее и ближе та из струй этого водопада, которая несла, как душ Шарко, холод мгновенного и полного «отрезвления» по отношению ко всему советскому прошлому. Историкам еще предстоит выяснить, как и под влиянием каких импульсов у тогдашней власти (почему я и вспомнил символическую фигуру М. С. Горбачева) и поддерживавшей его до поры когорты далеко не самых глупых людей страны, произошел резкий переход от традиционных лозунгов антисталинизма к лозунгам радикального антисоветизма и антиленинизма, и в стране началась, по точному выражению М. Гефтера, «эпидемия исторической невменяемости».
Может быть, повлиял М. Шатров с его пьесой «Дальше, дальше»? Вряд ли. Скорее всего, сыграла свою поистине судьбоносную роль публикация в СССР в 1989 году — заметим, за государственный счет, за счет советской власти! — главного антисоветского трактата ХХ века, «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Именно в этой книге, составленной из разных, тенденциозно подобранных источников, книге-«бомбе», как называл ее сам неистовый автор, впервые были возглашены безапелляционные приговоры:
«Все началось с перстов “Авроры”»...
«Сталин шагал в указанную ленинскую стопу»...
«Батеньки, да вот она, истина, которой мы долго ждали!» — воскликнула тогда вся либеральничающая интеллигенция и с тех пор стала нещадно сечь себя (подобно унтер-офицерской вдове) за бесцельно прожитые годы, а заодно и сечь, направо и налево, всю историю после 1917 года, а также и до — в той мере, в какой эта история несла в себе революционный фермент.
«Батеньки, да это же неслыханная ложь и инсинуация! — воскликнули тогда же и по тому же поводу все здравые люди, в том числе в лице видных представителей общественных наук, философов и историков. — Ведь Сталин шагал своим сапогом в свою стопу, он извратил Ленина! Ленин, может быть, в чем-то ошибался, перегибал, но в итоге он оставил стране (завещал) гражданский мир и нэп, многоукладную экономику — “всерьез и надолго”. А Сталин провозгласил лозунг обострения классовой борьбы, фактически продолжил гражданскую войну, расстрелял самых непокорных, а остальных отправил в ГУЛАГ. Не Ленин изобрел концлагеря, они — детище войн, и первыми начали загонять за проволоку своих плененных противников самые цивилизованные на тот момент англичане и американцы. Что же вы, господа либералы, так слепо убеждены, что у них, на Западе, все было и есть хорошо и нормально??!»
Прошу прощения, что в разговоре о столь серьезных вещах приходится иногда прибегать к «батенькам», к стилю Щедрина. Но горькая ирония — и горькая «сермяжная правда» — состоит в том, что Россия на рубеже 1980-1990 гг. реанимиривала все типы героев русской сатирической классики. И то, что на первый план тогда вышли недавние Молчалины, Репетиловы и Хлестаковы, всевозможные головотяпы и буравчики, а также Иваны и Борисы, вмиг забывшие про свое рабоче-крестьянское родство, — сегодня, полагаю, ни у кого не вызывает сомнений. Самое печальное, что Стародумы — назовем так носителей традиционной или «старой» идеологической парадигмы, сложившейся под влиянием ХХ съезда в 1960-е годы и потому носящей имя «шестидесятничества», — оказались задвинутыми в угол. (Не путать их с современными коммунистами, поклоняющимися Сталину.)
Обозначенные парадигмы во взгляде на революцию 1917 г., на Ленина и его историческую роль продолжают существовать и бороться. Это происходит и в науке, и в обыденном сознании, и в искусстве, и в СМИ. (Добавим: не только в России, но и за рубежом, где гораздо больше, чем у нас, ценят историческую объективность.) Хотя градус политизированности общества в последние годы резко снизился, никто не может сказать, что эта борьба бессмысленна и бесполезна. Недаром же в нее включились и создатели сериала, рассчитанного на многомиллионную аудиторию. Однако, их надо разуверить — напрасно они пытались сделать Шаламова своим союзником.
Скажем сразу: в рассматриваемом вопросе автор «Колымских рассказов» занимал позицию, очень близкую позиции Стародумов. Главное его отличие — он был скорее «эмпириком», чем теоретиком, он знал свою эпоху изнутри, собственной кожей, а не по книжкам. Но глубина мысли писателя, его способность видеть суть вещей намного превосходят иные многотомные ретроспективные мечтания. Заметим, что Шаламов никогда не вздыхал, подобно многим нашим современникам, о «России, которую мы потеряли». А вот о том, что у России был исторический шанс осуществить, как он писал, «действительное обновление жизни», и шанс этот относится к 1920-м годам, к досталинской эпохе — он говорил многократно и настойчиво. Самое выразительное его высказывание на этот счет:
«Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же» («Вишера. Антироман»).
Но задержимся пока на еще одном имени, которое, наряду с именем В. И. Ленина, стало для авторов сериала своего рода жупелом или символом негативной мифологии — очевидно, потому, что он, поэт Вл. Маяковский, воспел в свое время вождя Октябрьской революции. И здесь есть самый что ни на есть прямой повод еще раз сказать о цинизме создателей фильма — причем и по отношению к Шаламову, чьим именем они откровенно спекулируют.
Ложь в стержне — 2
Признаться, при первом, урывками, просмотре сериала я просто не видел этих эпизодов (из восьмой серии), где один из зэков колымского лагеря по фамилии Хренов читает стихи Маяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад», а потом кричит с матом: «Б...Я жрать хочу!», ругает Маяковского, называя его «форменным психом», и под влиянием голода превращается в дешевого лагерного стукача, которого расстреливают...
Просматривая эти эпизоды сейчас, прихожу к выводу, что они являются для авторов одними из ключевых и, так сказать, концептуальных в общем замысле картины.
Высветило все это неожиданное письмо редких внимательных зрителей сериала, опубликованное в «Литературной газете» под общим заголовком «Вторые палачи, или Ложь в стержне». Его авторы Е. И. Выгон и М. Е. Выгон — ближайшие родственники реального И. П. Хренова, которому Маяковский посвятил свое знаменитое стихотворение «О Кузнецкстрое и людях Кузнецка» и который в итоге оказался на Колыме.
Авторов письма глубоко возмутили и оскорбили названные эпизоды, где светлый, достойнейший человек (он учил одного из авторов письма, М. Е. Выгона, стойкости после пыток в Бутырке в 1937 году) изображен «опустившейся личностью». И они нашли, пожалуй, самую точную формулировку для выражения своих чувств:
«Иулиана Петровича Хренова убили дважды. Сначала — сталинские палачи. Теперь — свободные художники Николай Досталь и Юрий Арабов...»
Целиком солидаризируясь с этим выводом, я с большим любопытством прочел в ЛГ ответ Ю. Арабова (ныне профессора, руководителя кафедры кинодраматургии ВГИКа).
Как можно было выкрутиться в этой ситуации, где столь респектабельный ответчик, что называется, приперт к стенке? Но хладнокровная и расчетливая казуистика — что в кинодеятельности, что в сложных ситуациях обыденности — является, по-видимому, отличительной чертой Ю. Арабова. Он утверждал, что «заключенный Хренов, вокруг которого строится действие одной из серий, не имеет никакого отношения к реальному Хренову», что, оказывается, герой фильма «по заданию лагерной администрации (так!) выдает себя за “истинного” Хренова».
Никакой подобной провокационной интриги в «художественном контексте» этих эпизодов, как красиво пытается уверить сценарист, — не усматривается. Более того, в заключительных титрах восьмой серии, где названы герои и исполнители, черным по белому (вернее, белым по черному) написано: «Хренов — арт. Алексей Шевченко». То есть авторы прекрасно сознавали, что они изображают реального человека, связанного своей биографией со стихами Маяковского, и, сделав его опустившимся, падшим до скотского состояния, желали сказать не что иное, как:
«Вот сколь дешево стоят все эти идеалы про “город-сад” перед лицом реальности государственного насилия — социализма, который воспевал Маяковский!»
Иных версий толкования эти сцены не дают и не могут дать — они целиком соответствуют и идеологии, и методу, обозначенному, как мы говорили, уже в названии сериала, — методу снижения или опошления всего высокого. Чем выше был идеал «проклятого советского прошлого» — тем ниже его надо опустить, осмеять и растоптать! Разве не похоже это на постмодернистский «Бобок» с его безответственной и, в сущности, аморальной игрой любыми символами, в том числе — символами веры?
В связи с этим надо вернуться к ответу Ю. Арабова в ЛГ, где он в высокопарном стиле объяснял замысел «Завещания Ленина».
«Стержневой основой драматургии сериала, его сквозной темой является ложь, — писал он. — Ложь, которая связывает “верхи” и “низы” общества в единое целое...»
Чувствуете масштабность и высоту полета мысли кинодраматурга? У меня уже был случай поиронизировать над этими риторическими фигурами (в первом комментарии к ответу Ю.Арабова на сайте shalamov.ru), но хочу повториться. В своей самоуверенности автор сценария полагает, что говорит исключительно о «лжи режима». На самом деле, всякий, кто имел терпение досмотреть этот сериал, подумает, что речь идет о прямой и сознательной лжи... авторов. Проговорка почти по Фрейду!
Главное, что у Шаламова в его колымской прозе ничего, напоминающего историю с Хреновым, изображенную в сериале, — нет! Это чистый вымысел (или, если говорить прямо, чистая ложь) авторов!
Используя один из художественно-философских лейтмотивов «Колымских рассказов» — об «отрицательности» лагерного опыта для человека, о почти фатальной неизбежности его падения в нечеловеческих условиях (в чем писателя трудно упрекнуть — он видел множество таких случаев в мрачной «эмпирике» Колымы), авторы сериала совершили произвольную и бесцеремонную подмену героя. Тем самым они грубо фальсифицировали позицию писателя, его честь и его репутацию, что можно приравнять к клевете на него. (Приходится прибегать к подобным формулировкам, потому что, кто знает, может быть, дело дойдет и до судебного разбирательства о защите авторских прав, чести и достоинства Шаламова. По крайней мере, мне кажется, что в данном случае речь может идти не только о моральной, но и о юридической ответственности экранизаторов — надо же когда-то создать прецедент!)[2]
В том, что большой русский писатель оказался опорочен или, выражаясь новоязом, «подставлен» (и заодно поставлен на службу чуждой ему идеологии), сомневаться не приходится. Пример — реакция Е. И. и М. Е. Выгонов на эпизоды сериала с участием Хренова. Ведь в своем письме в ЛГ они высказывали вероятность того, что авторы фильма опирались в какой-то мере на Шаламова: «может, мы что-то пропустили у писателя» — и добавляли многозначительный (абсолютно необоснованный) укор: «Теперь только Бог ему судья»...
Чтобы исключить здесь какую-то тень, а заодно и просветить родственников И. П. Хренова, один из которых, как выяснилось, сам был на Колыме, можно привести целый пласт широко или менее известных фактов из биографии и творчества Шаламова. Они подтвердят ту непреложную истину, что автор «Колымских рассказов» никогда не был склонен к историческому садомазохизму — к высмеиванию идеалов своей молодости, а, наоборот, свято хранил память о лучших людях эпохи.
Во-первых, писатель на протяжении всей жизни, начиная с 1920-х годов, с большим уважением и теплотой относился к Вл. Маяковскому. Он сам не раз бывал на знаменитых поэтических вечерах в Политехническом и ярко описывал эти встречи (в том числе, в своих воспоминаниях «Двадцатые годы». См: Шаламов В.Т. Собр. соч. в 6 томах. М.: Терра-Книжный клуб, 2005. Т. 4). То, что в поздних записных книжках Шаламов назвал Маяковского «типичным романтиком», ничего не меняет — это констатация литературного явления.
Во-вторых, непосредственно И. А. Хренову Шаламов посвятил небольшой двухстраничный очерк, написанный в начале 1960-х годов, но тогда нигде не напечатанный (ныне очерк входит в тот же 4-й том шаламовского шеститомника). Очерк являлся откликом на статью доцента из Новокузнецка Б. Челышева в газете «Литература и жизнь» 1962 г., где впервые после двадцатипятилетнего перерыва было воскрешено имя этого незаурядного человека — бывшего бравого моряка, ставшего в 20-е годы активным профсоюзником и другом Маяковского. После его захватывающего рассказа о поездке в Кузнецк, на строительство первого в Сибири металлургического комбината, в 1929 году поэт и написал свое знаменитое стихотворение, которое поначалу и называлось «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка».
Шаламов начинал свой очерк с важного личного уточнения:
«Иулиан Петрович Хренов, которого звали уменьшительно то Ульян, то Ян, бывший директор Краматорского металлургического завода, был репрессирован не в 1938 году... С девятого августа 1937 года Хренов в числе тысяч других “троцкистов” плыл в верхнем трюме парохода “Кулу” из Владивостока в бухту Нагаево (пятый рейс)... Среди этих тысяч людей лишь один человек был с книгой — Ян Хренов. Книга, которую он взял в трюм, берег и перечитывал — однотомник Маяковского, с красной корочкой. Желающим Хренов отыскивал в книге страницу и показывал стихотворение “Рассказ Хренова о людях Кузнецка”. Но впечатления стихи не производили там, в трюме, никакого, и перечитывать Маяковского никто не собирался. Не перечитывал стихи и сам Хренов. Грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, была уже перейдена...».
Далее Шаламов сообщал, что в конце августа 1937 года он прибыл из Магадана на прииск «Партизан» — «в одной машине с Хреновым», и добавлял, что «позднее, в декабре 1937 года, Хренов говорил мне, что однотомник Маяковского отобрали на одном из многочисленных обысков».
Хренов пережил лагерный срок на Колыме. Его, как писал Шаламов, «спасла болезнь» — «тяжелое заболевание сердца, да еще камни в печени дали возможность Хренову работать на “легких работах”, получать повышенный паек». Писатель говорит, что на Колыме таких людей называли «стахановцами болезни», но для самого автора в этом нет уничижения. Доводя свой очерк или «краткую справку» до конца, он сообщал все известное ему о судьбе Хренова:
«По “КРТД” освобожден не был, и в конце войны получил “пожизненную ссылку”, работал “по вольному найму” нормировщиком на прииске, а в 1947 или в 1948 году умер».
Прежде чем перейти к заключению этой главы, приведем еще один факт, свидетельствующий об уникальности памяти Шаламова — памяти не только на злое (в чем нас пытаются уверить экранизаторы), но и памяти на все светлое и романтическое, что было рядом.
В рассказе «Бутырская тюрьма» (заключительной главе «Вишерского антиромана»), говоря о тех, кто был вместе с ним в этой тюрьме в 1937 году, в камере № 67 на двадцать пять человек, Шаламов вспоминает о Моисее (Матвее) Выгоне — вчерашнем студенте Московского института связи.
«Московский комсомолец, Выгон в одной из экскурсий на Москанал обратил внимание товарищей на изможденный вид заключенных, возводивших это знаменитое сооружение социализма. Вскоре после экскурсии он был арестован... Выгон был со мной на Колыме на прииске “Партизан”».
Пусть, хотя, может быть, и с опозданием, эти строки станут для Матвея Евсеевича Выгона (1915 года рождения, как гласит 25-тысячный список репрессированных, выявленных в столице «Московской правдой»), одного из авторов письма в ЛГ о «вторых палачах», — личным посланием от Шаламова, который никогда ничего важного и существенного для себя (и для коллективной, общественной памяти) не забывал. Так что и морализировать: «Бог ему судья» — нет надобности.
Об этом суде надо напомнить прежде всего авторам сериала. Теперь у нас для этого больше оснований.
Именно очерк Шаламова о Хренове, как можно предполагать, дал пищу их буйной, необузданной фантазии! Легко вообразить, как они, потирая руки, восклицали:
«А давай-ка мы портрет этого несчастного Хренова — допишем! Заставим его читать Маяковского в лагере, а потом сделаем стукачом! Вот будет сюр!..»
И дописали, и показали на всю страну — нисколько не стыдясь. Мол, мертвые сраму не имут. Но есть и живые — не только родственники И. П. Хренова, которых до глубины души оскорбляет кинематографическое «второе палачество».Те же чувства может разделить и подавляющая часть представителей старшего поколения нынешней России, которым далеко не безразлично, как преподносится на экране их молодость.
Между прочим, один из штампованных «разоблачительных» мотивов сериала — показ старой кинохроники, иллюстрирующей «муравьиный» и, как полагают авторы, исключительно подневольный каторжный труд, применявшийся на всех стройках социализма. Накладываясь на стихи Маяковского, эти кадры рождают зловещие, гиньольные ассоциации. Но к первостроителям Кузнецка это отношения не имеет — в 1929 г., когда появились стихи про «город-сад», здесь еще почти не было ни зэков, ни раскулаченных (все это пришло позже, с началом сплошной коллективизации, о чем писал и Шаламов на примере Вишерского химкомбината). Двадцатые годы — это еще время энтузиазма «мирового субботника», которому положил конец Сталин, создав в 1930 году каторжную систему ГУЛАГа. Но авторы не проводят никаких граней, ведь для них все в советской эпохе — завещание Ленина...
Разумеется, Ю. Арабову и Н. Досталю было бы трудно на протяжении всех двенадцати часов выдержать одну монотонную линию, заявленную в заставке-рефрене. Вероятно, поэтому они вставили в сериал немалое число эпизодов откровенно анекдотического характера. Поскольку в них тоже искажена или, выражаясь языком ТВ, смикширована подлинная биография Шаламова, на них нельзя не остановиться.
Приходит Шаламов к Троцкому...
Еще при первом просмотре фильма я обнаружил в некоторых его сценах поразительное стилистическое сходство с... пародиями-анекдотами Д. Хармса на тему «Однажды приходит Гоголь к Пушкину».
Повод дала прежде всего сцена визита молодого Шаламова к Л. Д. Троцкому (действие по фильму происходит в 1927 году). Я, извините, сильно хохотал над этим эпизодом, потому он резко вываливался из, казалось бы, трагической интонации всего сериала и своей абсолютной неправдоподобностью открывал один из секретов «творческой лаборатории» авторов. Правда, для того, чтобы до конца выяснить эти секреты, пришлось наводить кое-какие исторические справки.
Итак, третья серия, посвященная Шаламову — студенту МГУ и его участию в антисталинской оппозиции. Видно, что при реконструкции событий тех лет авторы немало постарались, собирая материал о товарищах Шаламова, прежде всего о едва упомянутой им в воспоминаниях Сарре Гезенцвей, которая, как он писал, «поставила его в ряды оппозиции». Всем участникам полуподпольного кружка было в ту пору около 20 лет, и налет иронии, с которым в сериале изображены усилия молодых героев («большевиков-ленинцев», как они себя называли) вернуть революцию с «термидорианского» пути на путь, указанный в политическом завещании Ленина, — наверное, был бы оправдан, если бы эта ирония часто не превращалась в откровенную насмешку. Такой насмешкой, рассчитанной на обывателя, и является, на мой взгляд, постоянное выпячивание на первый план необычайно «сильного» с точки зрения негативной мифологии имени Троцкого.
Когда Сарра Гезенцвей, приведенная волей авторов на завод Михельсона (это знак: здесь когда-то выступал Ленин), говорит на митинге голодным рабочим; «Если придет в Кремль товарищ Троцкий — будет у вас мясо!» — в это невозможно поверить, потому что сам Троцкий к тому времени уже не претендовал на власть и категорически запрещал использовать свое имя в качестве знамени оппозиции. Известно, что демонстрации, организованные сторонниками его «платформы» в Москве и Ленинграде 7 ноября 1927 года, проходили под лозунгом «Выполним завещание Ленина!» В московской демонстрации, разогнанной милицией, участвовал вместе со своими товарищами и Шаламов. И если бы авторы сериала нашли документальные кадры этой демонстрации либо попытались реконструировать ее в своем фильме (с участием Шаламова) — это было бы и правдиво, и впечатляюще. Но зачем правда, когда раскручен маховик фантазии, работающей в одном, заранее заданном направлении! «Давайте-ка еще раз пройдемся по Троцкому и намекнем на кое-что еще...»
Вот и идет юный, сосредоточенный Шаламов (арт. В. Капустин) вместе с другом на квартиру Троцкого, чтобы просить — нужна же авторам какая-то мотивация — освободить арестованную подругу Сарру и заодно «искать правду» у самого лидера оппозиции. Троцкий, оказывается, проживает сейчас «на квартире наркома Белобородова» (эта реплика, с упоминанием фамилии Белобородова, у Шаламова нигде и никогда не фигурирующей, звучит в маленьком эпизоде не раз, и мы скоро поймем для чего). Входят молодые люди в подъезд и спрашивают у вахтера, переодетого гепеушника, сначала Белобородова, а потом Троцкого. А гепеушник, сообразив, что перед ним наивные студенты, сбегав наверх, докладывает: «Лев Давидович сейчас занят. Он играет в шахматы с Анатолием Васильевичем Луначарским. Разыграна индийская защита, но до эндшпиля еще очень далеко». Студенты разворачиваются восвояси.
Ну, чем не анекдот?
Для чего он понадобился авторам — вопрос важнее. Чтобы показать, что молодой Шаламов питал какие-то надежды на Троцкого? Может быть, и для этого. Но вряд ли сценарист и режиссер не читали вполне однозначного свидетельства самого Шаламова в его автобиографии: «К Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии», — и не могли не понимать, что при таком отношении рядовой член оппозиции, к тому же беспартийный, не стал бы ломиться к Троцкому, тем более на тот момент уже опальному.
Может, авторы придумали эту сцену для того, чтобы посмеяться над нравами советской элиты, которая играет (или делает вид, что играет) в шахматы, отгородясь от народа? Слишком пошловато получается. Тем более, что, как свидетельствуют все исторические данные, в 1927 году Троцкий уже давно был в принципиальной политической ссоре с Луначарским и не мог с ним сидеть ни за каким столом.
Эпизод объясняется, на мой взгляд, проще: именно упоминанием, в одной семантической связке, фамилий Л. Д. Троцкого и А. Г. Белобородова. Это одна из скрытых аллюзий фильма, адресованная не «быдлятнику», который все равно ничего не понимает, а людям, сведущим в тайных письменах истории. Ведь этим людям, конечно, известно, что они, Троцкий и Белобородов (последний — начальник его канцелярии в Реввоенсовете, а в 1918 году — председатель Уральского совета), были самым прямым образом причастны к расстрелу царской семьи...
Тема, ставшая одной из популярнейших в современной России, затмившая для многих (в том числе для деятелей кино и ТВ) иные исторические горизонты, и как же было ее обойти в сериале, претендующем раскрыть русскую трагедию ХХ века? Хотя бы легким намеком сказать:
«Мы, авторы, тоже понимаем, откуда, от каких дьяволов, все пошло. И то, что молодой Шаламов и его друзья тянулись к этим дьяволам, лишний раз говорит о том, как наивны и слепы они были».[3]Исторический микс, сделанный Ю. Арабовым и Н. Досталем, вполне соответствует этой точке зрения. Ведь если посмотреть серии, посвященные дореволюционной России, то в них как раз — об истоках «дьяволиады», обрушившейся на благообразную и богомольную страну.
Один из этих истоков несут в себе разнообразные «нигилисты» (из народа и интеллигенции), отраженные в фильме. Тут авторы, можно сказать, не оригинальны — и в сравнении с одной из линий русской литературы, и в сравнении, скажем, с идеями известного сборника «Вехи». «Оригинальны» они только в одном — в стремлении всячески снизить высокий дух мысли Шаламова, связывавший его изначально, с юности, отнюдь не с консервативными течениями русской жизни.
Здесь время сказать еще об одной из чисто анекдотических сцен сериала на тему «Пришел Шаламов к...» На этот раз авторы решили привести его, совсем юного, к вологодским политическим ссыльным.
Вторая серия, 1916-й год, как указано в титрах. Варламу только что исполнилось 9 лет, и по настоянию своего отца — свободомыслящего священника (соглашусь со многими критиками: это, пожалуй, интереснейший образ фильма, созданный актером А. Трофимовым)[4] — он направляется вместе со своим братом навестить ссыльных и угостить их — в знак моральной поддержки — пирожками.
У дома подростков встречает полусонный благодушный полицейский (оплот режима, Санчо Панса и резонер!), который, отхватив себе пирог полакомее и жуя его смачно, доверительно докладывает:
«Государственные преступники ночью спать не дали, романсы пели. А в четвертом часу рубанули “Вы жертвою пали в борьбе роковой”. Дамы к ним приходили, это они для них старались... А вы что, тоже в ссылку собираетесь?».
Дальше зрителей ждет заготовленный под монолог «Санчо Пансы» шарж: неубранная после кутежа квартира, грязная посуда и тоскливо-циничные рассуждения ссыльного поляка Юзефа — о «пытке праздностью», о том, царь Николай Первый был мудрее, заставляя декабристов работать «во глубине сибирских руд» («а может, никаких “руд” не было, а были лишь мухи, карты, гитара и самогон?» — тут же сомневается он), и в заключение — оптимистическая тирада: «В будущей России тюрем вообще не будет, а будут исправительные работы на свежем воздухе...»
После этой «просветительской» беседы мальчика Варлама заставляют мыть гору грязной посуды, а в это время (буквально!) звучит пафосный закадровый текст Шаламова из «Четвертой Вологды»:
«Многие годы этот город был местом ссылки или кандальным транзитом для деятелей Сопротивления — от протопопа Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева... В моей семье боготворили этих гордых духом людей...»
Значит, эти ленивые, опустившиеся сибариты, к которым приведен Варлам — цвет России, соль земли? Не глумление ли это над писателем, над его убеждением в святости дела русского Сопротивления (так он называл все дореволюционное освободительное движение), а заодно — и над всеми «штурманами грядущей бури», начиная с декабристов!
Очевидно, что весь этот эпизод высосан Ю. Арабовым (мне довелось читать вторую часть сценария — она вошла в фильм без изменений) из своего метафизического пальца. Во-первых, почтенный драматург не знает реалий царской ссылки — не было там никаких стражников у домов, их элементарно не хватило бы, потому что число ссыльных перед революцией простиралось в той же Вологодской губернии на тысячи, да и отнюдь не «гордые ляхи» (по аллюзиям — предтечи Дзержинского?) определяли их лицо. Во-вторых, «пытка праздностью» и прочее — это явные перепевы известных идей А. И. Солженицына о легкости ссылки и излишнем либерализме дореволюционной карательной системы в целом (за чем у автора «Архипелага» читалась до предела простая идея: надо было меньше либеральничать — и не было бы ГУЛАГа!). У Ю. Арабова и Н. Досталя, как говорится, не хватило духу на подобные рискованные выводы, и они перевели их — своей незамысловатой кинопритчей о добром и мудром полицейском — Санчо Пансе — в образ многозначительного, «провидческого» вопроса: «Вы тоже в ссылку собираетесь»? И ткнули юного Шаламова носом в грязную посуду — мол, надо всегда быть «ближе к жизни», не рыпаться со своими утопическими «освободительными» порывами и во всем следовать советам мудрого...
Возможно, эта интерпретация напоминает «чтение в сердцах», т. е. гадание, но претензии авторов на историческую философичность обнаруживаются постоянно и требуют от зрителя поистине головоломных усилий. По крайней мере, все «анекдоты» соответствуют общей установке сериала — на исправление прошлого и на исправление самого Шаламова (и его текстов, и его линии поведения).
Примечательный момент: текстами произведений экранизируемого писателя Ю. Арабов и Н. Досталь пользуются крайне скупо — он звучит лишь в редком закадровом исполнении И. Классом стихов и отдельных отрывков прозы и воспоминаний Шаламова. Даже в сериях, посвященных Колыме, которые, казалось бы, должны быть наиболее адекватны «Колымским рассказам», воспроизводятся, как правило, лишь общие сюжетные линии шаламовских новелл, но в пересказе сценариста и с добавлением массы «додуманных» им деталей.
Отчасти это можно было бы объяснить сложностями перевода уникальной по своей эстетике прозы на язык кино. Но сценарист и режиссер, судя по всему, не слишком мучились этими проблемами. Все, о чем мы будем говорить ниже, свидетельствует о том, что они остались совершенно глухи к особенностям художественного языка Шаламова. Почему — сложный вопрос. Может, он связан со спецификой кинопроизводства?
До таких ли тонкостей, когда есть ясно обозначенный социальный заказ? И не простой заказ, а на двенадцатисерийную эпопею. Надо спешить! Что там у нас тормозит? Текст Шаламова? Он что, священная корова? Режем, правим. А чем заменяем? Что попадет под руку, лишь бы было по теме. Все годится в суп...
Удары в рельс и другие цитаты
Уже первые кадры фильма, о которых упоминалось, есть, на мой взгляд, чистое заимствование. Помните жестяную бирку на лагерном кладбище и закадровый голос с текстом Шаламова? Все это — прямая цитата из документального фильма А. Свиридовой и А. Ерастова «Несколько моих жизней» (1991 г.).
Это был первый фильм о Шаламове. По заранее оговоренным с И. П. Сиротинской, наследницей писателя, условиям он был построен исключительно на шаламовских текстах. Ход тем более оправданный, что нашелся замечательный актер — П. Щербаков, который проработал за кадром почти час на одном дыхании. Низкий, чуть с «зэковской» хрипотцой, благородный баритон Щербакова стал своего рода каноном для озвучания Шаламова. То, как читает И. Класс в фильме «Завещание Ленина», обсуждать не станем, но с точки зрения режиссуры это — повтор, эксплуатация чужого приема.
В кадре с могильной биркой только одна существенная разница — документалистами он делался на Колыме, на сохранившихся остатках лагерного кладбища, а «художник» Н. Досталь построил рядами муляжи из свеженапиленных столбиков на Кольском полуострове (причем на первом столбике, лезущем в глаза двенадцать серий подряд, следы свежего спила так и остались...).
А что нам еще показывают в первой серии, в зачине или интродукции фильма, столь ответственной?
Со скрипом на морозе распахиваются ворота лагеря. Охранники в белых полушубках. Над воротами красный (тоже свежий) плакат со словами Сталина: «Труд есть дело чести и совести». Караульные вышки. И звонкие удары в рельс среди бела дня. За этим следует звон будильника, от которого просыпается в своей московской комнате герой — уже постаревший Варлам Шаламов...
Оригинальный ход, не правда ли? Мы с ним где-то и многократно встречались — он воспроизводит все привычные, усредненные стереотипы восприятия лагеря, перекочевавшие сюда из самых разнообразных источников. Особенно умилительны удары в рельс — этой детали Шаламов никогда не употреблял и имел на то причины.
«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — ударом молотка об рельс у штабного вагона», — вряд ли кто из читателей со стажем не помнит этой сакраментальной, своего рода исторической фразы. Так начиналась знаменитая повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вышедшая в 1962 г. Фраза о рельсе (по закону первой фразы, хорошо известному и писателям, и читателям) моментально сделалась едва ли не крылатой.
У Шаламова никакого звона в рельсы не найти. Ни в рассказах, созданных до повести Солженицына, ни, тем более, после. Не потому, что на Колыме был острый дефицит профильной стали — не как на подмосковных стройках или в Экибастузе, а потому, что писатель видел и понимал лагерь по-другому. Не через быт, а через человеческий дух, не через мелкие детали, а через трагическую символику. Не станем углубляться в эту тему — особенностям поэтики «Колымских рассказов» посвящено уже много исследований, отечественных и зарубежных. И если бы создатели фильма прочли их, а также внимательнее прочли бы самого Шаламова, то для интродукции выбрали бы нечто иное, нежели пресловутый рельс.
Например, что-нибудь из тех страшных символических «картинок» Колымы, которые запомнились Шаламову больше всего (о них он писал Б. Пастернаку в 1956 году и включал в рассказы):
«Белая, чуть синеватая мгла зимней 60-градусной ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм... Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?...»
Таких, чисто шаламовских, образов — в фильме почти нет. Их заменяют, как правило, досочиненные за писателя устрашающе преувеличенные «картинки». Например, с выстрелом конвоира в толпу заключенных в пересыльной тюрьме перед Вишерой в 1929 году, что неправдоподобно для тех лет; с выстрелом в героя рассказа «Одиночный замер» Дугаева — чего нет в рассказе, как и фразы Дугаева: «Советская власть дала пос...ать от всей души», и т. д. Зато есть в сериале растянутая почти на целый час сюжетная линия рассказа «Мой процесс», когда Шаламову в 1943 году дали новый срок и вели под конвоем на суд в лагерный поселок Ягодное. Между прочим, эти сцены, как выясняется, нужны авторам лишь для того, чтобы, опять же, «опустить» советскую киноклассику 1930-х годов. Названия фильма, на который спешили конвоиры в Ягодное, подгоняя и избивая по пути Шаламова, сам писатель не упоминает, но Ю. Арабов его «домыслил» — «Свинарка и пастух». И показал кадры из него в лагерном клубе. А почему, скажем, не из «Веселых ребят»? Это было бы эффектнее. И сюр, и стёб, и развеивание советской мифологии одновременно. Но солидному профессору ВГИКа это показалось, по-видимому, перебором, и он соблюл некоторый «такт» по отношению к классикам, которые могли бы посмотреть на него с большим укором с портретов в том же киноинституте....
Кстати, они, подлинные мастера искусства, могли бы предъявить создателям сериала множество претензий чисто профессионального порядка. Скажем, за постоянные, откровенно педалированные самоповторы. Сколько же можно варьировать в одном серьезном фильме тему... пирожков! Эта тема, долженствующая, видимо, напомнить о постоянном чувстве голода у Шаламова, повторяется на разные лады в сериале почти десяток раз. Это если бы Эйзенштейн спускал коляску по Потемкинской лестнице десять раз! А навечно застывшие напряженные скулы у артистов, изображающих колымских доходяг — это вершина режиссерской работы с актерами? А здоровенный опер, пытающийся изнасиловать больную, умирающую заключенную — он что, сильно «оголодал»? Не верю, сказал бы Станиславский. И мы не верим, потому что у самого Шаламова есть «картинки» не только страшнее, но и правдивее...
Самым непонятным на этом фоне является включение в сериал совершенно чуждого Шаламову — и по поэтике, и по содержанию — материала рассказа Г. Демидова «Дубарь». Причем эта литературная цитата преподносится авторами с особыми эмоциями, как едва ли не смысловой философский центр всей картины... Естествен вопрос: неужели не хватило материала из ста пятидесяти шаламовских новелл? Хотели напомнить о Демидове — колымском друге, тоже ставшем писателем? Но для этого можно найти другие поводы и другие формы. А рассказ «Дубарь» вовсе не «органично» вписывается в шаламовскую прозу, как посчитали некоторые критики.
История о том, как заключенному дали сверток с мертвым младенцем-«дубарем», как приказали его похоронить, с каким трепетным чувством отнесся заключенный к исполнению этого приказа, как он рыл в мерзлоте могилку и как поставил на ней маленький деревянный крестик, — конечно, сильная история. Но в ней, извините, многовато надрыва и патоки, вовсе не свойственных Шаламову и его суровой прозе. И не один я так думаю. Необычайно красноречивы на этот счет воспоминания врача Е. А. Мамучашвили, близко знавшей и Демидова, и Шаламова по лагерной больнице:
«Когда я прочла в “Огоньке” 1989 г. рассказ Демидова “Дубарь”, то поразилась, насколько он соответствует характеру автора. Демидов-заключенный получил от нарядчика задание похоронить умершего в лагере ребенка. Он делает это благоговейно, с почти религиозным чувством и ставит над могилкой крест. Шаламов, окажись он в такой ситуации, несомненно, сделал бы то же самое, но он бы, я думаю, этого не описал и креста бы не ставил. Он не был сентиментальным человеком, и его никак не назовешь сентиментальным писателем...» (выделено мною — В. Е. Цит. по: Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1994).
В связи с этим можно было бы порассуждать о религиозной символике в «Колымских рассказах», о том, почему Шаламов включил в них новеллу «Крест», основанную совсем не на лагерном материале, а на реальном эпизоде жизни своего отца в Вологде 1920-х годов. (Слепой священник разрубает крест — это ли не мощный и глубокий символ эпохи? Он мог бы стать действительным смысловым центром картины, но в сериале он преподнесен как сугубо бытовой случай — и это притом, что Ю. Арабов известен своей склонностью к аллегориям и, кроме того, говорят, силен в богословских вопросах, написав даже целый труд «Сумма богословия»...). Но у нас тема другая — о заимствованиях и цитатах в фильме.
В последней, двенадцатой серии авторы решили изобразить встречу отца и сына. Сын, еще молодой, вернувшийся после первого лагерного срока, просит прощения у отца — «за всю боль, которую я причинил тебе». Вариации на тему «блудного сына»? — Все гораздо прозаичнее.
Отец (ослепший к тому времени, но в фильме он «прозрел», хотя видит плохо) говорит: «Оставь ты эти сентименты. Лучше прочитай мне, вот тут отмечено» — и дает газету. Варлам читает:
«Понятие “народ” всегда имело в России сакральный характер. И русская литература сыграла в этом определяющую роль. Ни в одной из литератур мира гуманистическая идея сочувствия низшим, беднейшим слоям общества, занимающимся тяжелым физическим трудом, не доводилась до такой степени экзальтации и абсурда, не награждалась высшими человеческими добродетелями, не превращалась в миф и фетиш, как в России...»Отец говорит: «Со всем этим можно согласиться, не правда ли?»
Варлам отвечает: «Не знаю...»
Интересная мысль прозвучала в газете начала 1930-х годов! Очень подходит, надо сказать, отцу, который немало пострадал от «народа», и все логично ложится на минорный философический финал картины. А кто высказал эту мысль? Вероятно, сам Шаламов — где-нибудь в эссе или дневниках?
Неловко сказать, но — я, автор этих строк. См: IV Международные шаламовские чтения. М. Республика. 1997. Статья «Пусть мне не “поют” о народе» (образ народа в прозе И. Бунина и В. Шаламова).
Вероятно, надо гордиться, что и меня тоже процитировали в этом сериале? Но — полагаю — чисто случайно. И «благодарить» надо, видимо, не Ю. Арабова, а соавтора сценария, указанного в титрах, — О. Сироткина. Ведь обычно соавторам-подмастерьям в кино выпадает нелегкая роль — срочно подыскивать подходящие цитаты, из которых мастера создают свои «шедевры»...
Как обходятся с Беатриче, или Женская линия
Что за сериал без женской, любовной линии? Следуя закону жанра, авторы изобразили некое подобие любовного треугольника — соперничество двух молодых женщин за сердце и за облегчение участи постаревшего писателя...
Здесь мы будем до предела кратки. Все, что фигурирует на эту тему с первой до последней серии, — чистая выдумка сценариста и режиссера. Причем выдумка снова бесцеремонна и оскорбительна по отношению к ныне живущим людям. «Прообраз» одной из героинь очевиден — это И. П. Сиротинская, которую Шаламов действительно глубоко любил и уважал, посвящал ей стихи и целые сборники своих рассказов и которая в конце концов самым достойнейшим образом исполнила свой долг любви и верности — сохранила для людей, для человечества все литературное наследие писателя, которое он ей завещал. Ее роль в судьбе Шаламова недаром сравнивают с ролью Беатриче в судьбе Данте — с той лишь разницей, что она стала «русской Беатриче», с грузом бытовых проблем, выпадающих русской женщине. Обо всем этом, в том числе о мучительной драме разрыва, И. П. Сиротинская с полной откровенностью не раз рассказывала в своих воспоминаниях, вошедших в итоговую книгу «Мой друг Варлам Шаламов» (М., 2006).
Но авторам (несмотря на то что один из них, Ю. Арабов, еще и поэт) совершенно чужда высокая поэзия и трагедия любви. Могу это с полным основанием утверждать, потому что сделать Беатриче «одной из», приравнять ее к некой «сопернице» — это сугубо алгебраический, холодно-сальерианский ход. Он просчитан опять же с точки зрения политических «сверхзадач» фильма. Недаром «соперницы» уже в первой серии сталкиваются авторами в споре о том, кто из них служит КГБ, кто «стукачка».
Не станем акцентировать внимание на том, какая из реальных женщин, посещавших Шаламова на его квартире, а затем в больнице для престарелых, послужила прототипом второй дамы, изображенной в сериале. Биографам известно, что этих дам было несколько, и они, осуществляя свою миссию по «спасению» писателя, в конце концов оказались по-женски расчетливы — первыми после его смерти пришли для заявления своих прав на наследство...
Такой грубой «сермяжной» правды, окружающей жизнь и смерть великого писателя, авторы сериала сознательно избегают. Но не было бы лучше и правдивее — вместо банальных мелодраматических «соплей», размазываемых по сериалу (прошу прощения за такое выражение, но ведь эти «сопли» — явно на обывателя), — привести и озвучить голосом того же И. Класса потрясающе прямые и по-мужски откровенные слова из дневников самого Шаламова, сразу развеивающие весь туман легенд по поводу его поздних одиноких дней:
«...Даже чтение вчерашней газеты больше обогащает человека, чем познание очередного женского тела, да еще таких дилетанток, не проходивших курса венских борделей, как представительницы прекрасного пола прогрессивного человечества».
Еще раз о «прогрессивном человечестве» и нравственных заветах Шаламова
Отчего же авторы сериала так часто говорят за и вместо Шаламова? Почему у них не наблюдается ни малейшей доли пиетета к автору и его произведениям (что предполагает любая экранизация)?
Почему никак не верится многократным заявлениям Н. Досталя о том, что он взялся за фильм исключительно из-за того, что осознал Шаламова «великим писателем» и воспринял свою работу как «миссию»?..
С великими так не обходятся. Не осознано оно, величие. Не поняли авторы Шаламова — ни молодого, ни зрелого, ни позднего, не поняли ни как личность, ни как писателя. «Всю жизнь меня принимали за кого-то другого», — признался как-то автор «Колымских рассказов». Вот этот «другой» и фигурирует в фильме — не как гордый, абсолютно независимый и неповторимый художник и мыслитель, а как, опять же, «один из» писателей-лагерников, отличавшийся лишь тем, что его рассказы были жестче, а стихи — лиричнее. Но и в стихи проникала почему-то ожесточенная жажда мести — недаром в фильме звучит «Славянская клятва» Шаламова: «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам...» И недаром эта черта писателя, весьма акцентированная и утрированная в фильме, вызвала душеспасительные упреки со стороны некоторых блюстителей чистоты библейской морали. («...Пока он отделен от Бога, он сам бесконечно болен и нуждается в исцелении. Кто может бросить в него камень и исцелить его? Тот, кто не бросит камень в его неверие, в его срывы, в его ожесточившуюся душу». Миркина З. ГУЛАГ и Заповеди Христа. Искусство кино, 2007, №8. Идеал для автора этой статьи — слова безымянного заключенного немецкого концлагеря: «Мир всем людям злой воли! Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию!..»)
«Ожесточенная душа», «срывы», «неверие» — все это знакомо. К ним можно добавить «безумноватые глаза», которые нашел у Шаламова еще в 1960-е годы А. И. Солженицын (см. его воспоминания «С Варламом Шаламовым»). Именно таким, «душевно надломленным», воспринимала писателя окружавшая его в последний период жизни литературная и окололитературная среда, в которой задавало тон пресловутое, отвергавшееся Шаламовым с порога «прогрессивное человечество». Для его обозначения писатель обычно употреблял аббревиатуру «ПЧ», чем подчеркивал свое презрение.
В сериале эта важнейшая тема обойдена, и вполне понятно, почему: потому что фильм своими корнями, своей идеологией и своим высокомерно-снисходительным отношением к Шаламову (что и видно в постоянном стремлении «поправить» и «исправить» его) — самым непосредственным и, можно сказать, генетическим образом связан с этой средой московских либералов и снобов, с их психологией и взглядами. В сущности, авторы фильма — и в общем замысле сериала, и в частных эпизодах, особенно тех, что относятся к последним годам жизни писателя, — воспроизводят и повторяют старые диссидентские бредни, родившиеся на пресловутых «кухнях». (На более строгом социологическом языке это можно назвать трансляцией клише или стереотипов сознания либеральной фронды позднего периода существования СССР).
Ох, уж как старалась эта публика вовлечь автора «Колымских рассказов» в свои ряды, сделать своим «знаменем» (вторым после Солженицына), противником советского строя, «внутренним эмигрантом»! Но всегда и по всем вопросам получала резкий и принципиальный отпор. Этот отпор можно проследить и по произведениям, и по письмам и дневникам Шаламова 1960-1970 гг.
Попытаемся истины ради хотя бы вкратце реконструировать основные предметы и пункты этой полемики.
Самым модным тогда среди первых новообращенных московских православных из круга «ПЧ» стал важнейший для них мировоззренческий вопрос:
«Как, вы, сын священника, не верите в Бога?!».Шаламов: «Я ответил на этот вопрос рассказом “Необращенный”. Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?».
«ПЧ»: «Вас, прошедшего Колыму, устраивает советская власть?!»
Шаламов: «Устраивает. Я же говорил, что Сталин и советская власть — не одно и то же. А сейчас жить можно. Мне пенсию прибавили».
«ПЧ»: «Но вас же не печатают?».
Шаламов: «Стихи печатают. А рассказы, я верю, дождутся своего часа».
«ПЧ»: «Почему вы отказались давать свои рассказы в Самидат?»
Шаламов: «Самиздат теперь, как я понял, — это отравленное оружие борьбы двух разведок в холодной войне».
«ПЧ»: «Почему вы не передаете рассказы на Запад?»
Шаламов: «В “Посев”? Он заслуживает только бича. В конце концов, у Запада другая история, у России — своя».
«ПЧ»: «Вы написали письмо в “Литературную газету”, где отреклись от “Колымских рассказов”. На вас что, надавило КГБ?»
Шаламов: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи под пистолетом. Я ни от чего не отрекаюсь — я против спекуляций на проблематике “Колымских рассказов”.
«ПЧ»: «Вы что, не хотите перемен в Советском Союзе?».
Шаламов: «Хочу. Но я против любых необдуманных, резких перемен. Вы знаете, что такое подземный блатной мир? Я его знаю. Он только ждет свободы, чтобы выйти на поверхность и убивать, делать мясо из вас, фраеров. А вы еще будете чесать им, блатарям, пятки...».
«ПЧ»: «Вы боитесь взойти на Голгофу во имя спасения России, принять крест?»
Шаламов: «Вы хотите сделать меня факелом, затолкать в яму, а потом писать петиции в ООН? Я — шантажеустойчивая личность. И я, извините, хорошо знаю, что ваше “ПЧ” состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей. Но дураков нынче мало...»[5]
Если хотя бы подобие такого диалога возникло в последних сериях фильма, зритель мог бы получить реальное представление о могучем характере и интеллекте Шаламова, его провидческих взглядах и мужественной, истинно патриотической (тогда это слово не было еще столь запачканным, как сегодня) гражданской позиции. Но вместо этого мы видим лишь больного, надломленного литератора, больше всего озабоченного (в связи с известным письмом в ЛГ) тем, чтобы вышел его очередной поэтический сборник...
О том, что концептуальный посыл в интерпретации необычайно сложного и трагичнейшего финала жизни Шаламова у авторов сериала совершенно иной — и не мог быть другим — можно было догадаться сразу. Конечно, Шаламова затолкала в яму исключительно советская власть руками КГБ — как же иначе! От первой до последней серии фильма тянется эта заунывная страшилка о всепроникающих щупальцах «Комитета», который якобы, используя Союз писателей СССР, приложил все усилия, чтобы погубить автора «Колымских рассказов». Снова хлопают создатели фильма дверьми последних больниц и палат, где лежал писатель, чтобы внушить легковерному зрителю, будто он был сознательно умерщвлен «тайными силами». А не доброхотскими, в сущности — провокационными, усилиями тех представителей «прогрессивного человечества», кто являлся к тяжело больному Шаламову, чтобы запечатлеть с фотовспышками его «гонимое» положение, записать его голос, а затем передать материалы на Запад, зная, что это может лишить писателя последнего тихого покоя. Неужели подобная суета как-то связана с гуманизмом? «Бедная, беззащитная старость сделалась предметом шоу», — очень точно сказала И. П. Сиротинская.
Невольно возникает аналогия со смертью Пушкина, вернее — с тем, как ее преподносили некоторые советские историки, видя кругом только происки «николаевских жандармов». О том, что Пушкин защищал на дуэли «всего-то» свою честь, стали говорить много позже. Но мысль о том, что Шаламов тоже защищал свою честь — и письмом в ЛГ, и открытым презрением к «ПЧ» — даже и не предполагается. Действует та же грубая идеологическая схема, тот же социальный заказ, который во времена оны позволял манипулировать сознанием миллионов, — и на этот раз с той же «благородной» целью обличения режима (уже не царского, а советского) и всех его «сатрапов». Разве не так?
О том, что Н. Досталь и Ю. Арабов выступили вдохновенными исполнителями этой версии, мы уже говорили. Их выбор, их персональная ответственность за столь тенденциозный, фальшивый и спекулятивный в своей основе фильм (а спекуляция-то не на чем ином, как на крови!), несомненно, будут закреплены в анналах истории отечественного кино, да и социальной истории России в целом. Ведь тихого и спокойного «конца истории», вечного господства сытого буржуазного либерализма и идущего с ним под руку постмодернизма — кажется, не предвидится...
А для полноты анализа поговорим в заключение не столько о персонах, сколько о типе сознания и социального поведения, который они представляют.
То, что этот тип своими корнями уходит в легковесную, межеумочную психологию «прогрессивного человечества», столь презиравшегося Шаламовым, — совершенно очевидно. Не затрагивая вопроса о программах «духовных лидеров» тогдашней оппозиции (отчасти мы его осветили выше, касаясь фигуры А. И. Солженицына), отметим очевидное: в своем массовом, «уличном» (или «квартирно-кухонном») преломлении эти либерально-фрондерские умонастроения не переступали «зоны риска», вполне уживались с привычным комфортом, не имели сколь-либо политически серьезного, а тем более конструктивного характера. В общем и целом они напоминали скорее давно знакомую в России «репетиловщину» с ее притушенными на всякий случай возгласами: «Шумим, братцы, шумим». Но когда события принимали иной оборот, Репетиловы, как известно, всегда шумели громче.
Между прочим, весьма точное определение этому вековечному российскому явлению давал в свое время Ленин, говоря о людях, «увлеченных вихрем событий и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев». (Если кто забыл — в статье «Революционный авантюризм». См: Ленин В.И. ПСС. Т. 6. С. 377).
Вихрь событий «второй русской революции 1991 года» давно отшумел, о том, какую роль в нем сыграла бывшая советская либеральствующая «массовка» — известно, но не совсем проясненными остаются некоторые вопросы.
Первый из них: почему тип деятелей культуры, изначально не имевших никаких теоретических и социальных устоев и не имеющих их доныне (утверждаю это с полной ответственностью: надеюсь разбор сериала «Завещание Ленина» это доказал) вознесся на позиции едва ли не главных идеологов современного российского общества, навязывая ему свои претенциозные, явно антиисторические опусы и при этом находясь в состоянии прежнего душевного и прочего комфорта?
И второй вопрос: почему власть так рьяно поддерживает этот тип якобы «свободных художников» — с одной стороны, раздавая государственные заказы под ту или иную тему, а затем гарантируя им своей поддержкой звездопад из всевозможных премий, и далее — новые и новые заказы?
Ответ, наверное, прост и очевиден: потому, что тем и другим выгоден этот альянс. И грубо материально, и, так сказать, идеологически. А что все это очень зримо напоминает? Не узаконенную ли коррупцию во дворце правосудия, не мафию ли?
Но важнейший вопрос: какова перспектива у этого альянса? Особенно в русле эксплуатации старых, за двадцать лет истрепанных, жеваных и пережеванных диссидентских установок на разрушение «советской идеологии» и «советской картины мира»? Не пора ли, как говорится, сменить пластинку? Не пора ли заняться выработкой новых, не конъюнктурных, а долговременных «теоретических устоев» для развития современной России? Такой, какова она, увы, есть в реальности, и будем в этом перед собой откровенны — нищая, падшая, но все-таки сопротивляющаяся страна, с отчаянием пытающаяся преодолеть назначенный ей — неизвестно куда? — «переходный период»...
Самые строгие и честные социологи давно установили и другую истину: хотя нынешняя Россия и называется «постсоветской», на самом деле она наполовину и более является советской — и по сознанию наших сограждан, и по своему экономическому базису, начавшему создаваться во времена Кузнецкстроя и людей Кузнецка (а также во времена свободной, а затем лагерной, описанной Шаламовым, Колымы).
Что же, покончить с остатками, со всеми реликтами этой страны, закопать их навеки, или все же, отделив зерна от плевел, принять и советскую историю России такой, «какой ее нам Бог дал» (Пушкин)?
Шаламов никогда не давал никаких политических рекомендаций, никаких рецептов «спасения» или «обустройства» России. Но его нравственные заветы всегда актуальны. Эти заветы — в его бессмертных, не подчиняющихся никаким «текущим» корыстным интересам произведениях, а прежде всего — в его реальной судьбе, которая свидетельствует о неисчерпаемых возможностях человеческого духа и способности каждого человека в любых обстоятельствах «опереться на иные силы, чем надежда»...
Notes
- 1. Данная статья является продолжением краткого комментария автора к полемическому диалогу о фильме «Завещание Ленина» (см: «Вторые палачи, или Ложь в стержне» на сайте shalamov.ru ), а также развитием ряда тезисов, высказанных в статье «Кто он, майор Пугачев?» (на том же сайте, а также в нашей книге «Варлам Шаламов и его современники»).
- 2. Автор комментария к публикации (ЛГ от 4 июля 2007 г.) телеобозреватель А. Кондрашов справедливо предлагал авторам сериала извиниться перед родственниками и «выкинуть эпизоды (или переименовать персонажей), которые порочат честь и достоинство прошедшего колымские лагеря мученика». На судебное преследование А. Кондрашов не возлагал надежд, однако, при настойчивости всех истцов (включая тех, кто представляет интересы В. Т. Шаламова), шансы на успех этого дела против экранизаторов могут значительно возрасти.
- 3. Шаламов в своем творчестве никогда не касался темы расстрела царской семьи. Единственное его косвенное, но многозначительное суждение на этот счет содержится в «Четвертой Вологде». Писатель приводит слова из воспоминаний комиссара Временного правительства по охране семьи Романовых В. С. Панкратова, который еще в Тобольске запретил царю выходить из дома даже на церковную службу: «Поймите, гражданин Романов, толпа — есть толпа».
- 4. Автор не ставит цель анализировать актерские работы, но признает, что общая установка режиссера на не слишком «зазвездившихся» артистов (исключение — родители Шаламова, актеры Александр Трофимов и Ирина Муравьева) оправдана — благодаря этому, кроме прочего, зрители смогли оценить таланты многих актеров из провинции.
- 5. Не приводя ссылок на конкретные источники, отошлем читателя к нашей книге «Варлам Шаламов и его современники», где есть и ссылки, и другие аргументы в обоснование позиции, заявляемой писателем в данном (разумеется, условном) диалоге.
The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.