
«Теория искусства и жизни была у него законченная…»
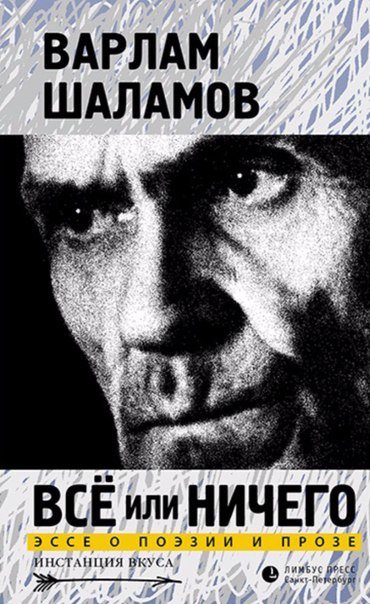
Варлам Шаламов известен прежде всего как автор «Колымских рассказов» — пяти прозаических циклов, повествующих о существовании человека в сталинских лагерях, — и примыкающих к ним «Очерков преступного мира». Сегодня можно сказать, что Шаламова-писателя знают достаточно; Шаламов-поэт известен в меньшей степени; наследие же Шаламова-литературоведа — это отдельный, знакомый в основном лишь специалистам пласт его творчества.
В этот сборник включены статьи и эссе Шаламова о литературе. Для многих читателей они могут стать открытием и наверняка позволят лучше понять автора «Колымских рассказов», пролив новый свет как на его интеллектуальные и эстетические ориентиры, так и на сами рассказы. По большому счету литературные манифесты, эссе, воспоминания и теоретические исследования Варлама Шаламова важны не только с точки зрения истории литературы, интересны не только как свидетельства человека уникальной и трагической судьбы, но они определенно заключают в себе авторскую сверхзадачу — попытку восстановления целостности культуры, поиск ее места после свершившейся катастрофы ХХ века. В минувшем столетии европейский мир, державшийся — как еще недавно казалось — на гуманистических ценностях, породил Освенцим и Колыму. В результате философы второй половины ХХ века столкнулись с парадоксом: культура и варварство, оказывается, вовсе не полюса человеческой цивилизации — напротив, эти вещи вполне совместимы…[1] Большинство мыслителей так и остановились перед этим парадоксом, лишь описав его с разной степенью выразительности. Некоторые склонились перед ним в отчаянии — как Теодор Адорно, зафиксировавший: «Освенцим доказал, что культура потерпела крах»[2]. Другие оказались способны лишь на циническую усмешку — как большинство постструктуралистов. Найти выход из тупика предстояло художественной литературе. И Варлам Шаламов, по мнению многих, — одна из главных фигур этого процесса. Ему удалось создать «новую прозу», порвавшую с предшествующей литературной традицией, и рассказать о том, чего раньше даже представить было невозможно, при помощи языка, которого до Шаламова не существовало.
Шаламов писал: «Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму, и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера…» (<О моей прозе>). И еще: «Фраза должна быть короткой, как пощечина».
* * *
Варлам Шаламов, сын вологодского священника-обновленца, приехал в Москву в 1924 году. Он хотел поступить в вуз, но выходцу из духовного сословия понадобился еще целый год, чтобы получить трудовой стаж и иметь возможность прикрыть им изъян социального происхождения: сын священника в те годы не имел права на высшее образование. Шаламов поступает на факультет советского права МГУ, одновременно с учебой активно участвуя в литературной жизни столицы. Он общается с А.К. Воронским, редактором «Красной нови» и вдохновителем группы «Перевал», участвует в диспутах «Нового ЛЕФа», учится у Сергея Третьякова, слушает диспуты Маяковского с любителями Есенина… В то же время он примыкает к антисталинской оппозиции, противостоящей надвигающейся диктатуре (см. очерк «Александр Константинович Воронский»). В 1927 году Шаламов вступил в ряды
«тех, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина. Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу»[3].
О литературной жизни и атмосфере того времени Шаламов написал воспоминания «Двадцатые годы» и «Москва 20-х — 30-х годов», в которых это время предстает прямой противоположностью сталинскому. Именно из эстетических споров двадцатых вынесет Шаламов свою «новую прозу», отталкиваясь от ЛЕФа, сформулирует свою позицию об отношении писателя к действительности. И тогда же будет «учить наизусть» сборники ОПОЯЗа, изучать футуризм и одновременно Блока, Кузмина, Анненского, чтобы затем обрести свой собственный поэтический голос.
Шаламов — человек двадцатых годов и эстетически, и мировоззренчески: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни»[4] [4, 432]. В 1929 году его арестовали за распространение так называемого «Завещания Ленина» — «Письма съезду», в котором Ленин требовал убрать Сталина с поста генсека. Первый лагерный срок — три года, в основном проведенных Шаламовым на строительстве Березняковского химкомбината. В 1932 году — возвращение в Москву, работа в журналах, первые опубликованные рассказы. В 1937-м — второй арест и Колыма, Севвостлаг, где, судя по современным данным, умер или был расстрелян каждый шестой из привезенных: из восьмисот шестидесяти тысяч заключенных погибнет более ста тридцати четырех тысяч[5].
Шаламов застал на Колыме самое страшное время: 1938 год, пик «ежовщины». Именно тогда началось настоящее уничтожение осужденных по политической 58-й статье. Затем — война: смертность заключенных резко выросла из-за голода, вызванного сокращением пайков. Со дня своего ареста (13 января 1937 года) Шаламов прошел: полгода Бутырской тюрьмы, девять лет каторжного труда на общих лагерных работах, с карцерами, побоями и небольшими перерывами на больничное восстановление умирающего доходяги, пять с половиной лет работы фельдшером-заключенным и еще два года вольнонаемного фельдшерства в Якутии. Итого: шестнадцать с лишним лет отчуждающей, обезличивающей, обесчеловечивающей колымской лагерной повседневности. И еще три года ссылки за 101-й километр, в Клинский район Калининской области в качестве «агента по снабжению» торфопредприятия, где он и начал писать «Колымские рассказы».
* * *
После лагеря Шаламов не раз заявлял, ничуть не рисуясь: «Я не знаю, жизнь — благо или нет». Известно, что многие литераторы из тех, кто выжил в нацистских лагерях, не смогли в итоге жить с этим опытом и покончили с собой. Жан Амери, Примо Леви, Тадеуш Боровский… Но Шаламова поддерживала цель:
Не покончу с собой —
Превращусь в невидимку:
И чтоб выиграть бой,
Стану призрачной дымкой.
Я врага разыщу
Средь земного предела,
Подкрадусь, отомщу,
Завершу свое дело.
Вернувшись из заключения, он поставил себе задачу не просто рассказать о пережитом — мемуары не стали бы полноценной местью и не смогли бы передать человеку, никогда не бывшему в лагере, всю полноту ощущения того, что там происходило, — задача Шаламова состояла в том, чтобы показать экзистенциальные последствия лагеря, заставить читателя не просто ознакомиться с информацией, но почувствовать само это «состояние зачеловечности»:
«Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интеллигентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепости? В присутствии ли какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые? Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том, что человек человеку — волк и когда это бывает. У какой последней черты теряется человеческое? Как о всем этом рассказать?» [5, 442].
Ответы дала его «новая проза». В «Колымских рассказах» создан художественный язык, погружающий читателя внутрь изображаемого с помощью сложной и тщательно продуманной системы литературных приемов, которую сам читатель зачастую не опознает как литературу. Более того, даже некоторые филологи и литераторы до сих пор характеризуют прозу Шаламова как «безыскусную», «простую», как «натуралистическое описание». И это несмотря на множество признаков, указывающих на сложность художественной организации текста! Можно вспомнить уже ставшую знаменитой прозрачную аллюзию, с которой начинается рассказ «На представку»: «Играли в карты у коногона Наумова», отсылающую к первой строчке «Пиковой дамы». Или тот факт, что повествование идет то от третьего, то от первого лица — причем фигура рассказчика по ходу действия может меняться. Или можно попытаться разобраться, почему один и тот же герой (с чуть измененной фамилией) предстает сначала в роли Понтия Пилата, забывшего лицо Христа, а через десять рассказов — уже как достойный человек и честный медик, противостоящий лагерной жестокости. Так, фронтовой врач Кубанцев в рассказе «Прокуратор Иудеи» вычеркивает из памяти обмороженных заключенных, которые попали к нему в больницу в первые же дни его работы лагерным врачом. А фронтовой врач Рубанцев (изменена только первая буква фамилии) в рассказе «Потомок декабриста» — «не ладил с высоким начальством, ненавидел подхалимов, лжецов». Зачем все эти приемы и сложности, которые становятся заметны только после сознательного поиска? Чтобы показать тотальное смещение привычных координат, масштабов[6] в этом отделенном от человеческого, лагерном мире. Чтобы читатель, который никогда не умирал от голода, холода и блатарских побоев, смог понять, представить, ощутить зачеловеческое состояние.
Шаламову удалось стереть грань между документом и художественной прозой и сделать художественный текст — свидетельством. В результате
«появилась модель порождения текстов, на каждом уровне представляющих собой срез материала — и, более того, являющихся успешной (иначе читатели не воспринимали бы насквозь литературные шаламовские тексты как документ) проекцией материала на сознание аудитории»[7].
Почти невозможно себе представить факт: создал этот новый язык литературы человек, который все описанное пережил сам. Шаламов признавался:
«Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы» (<О моей прозе>).
Когда же «Колымские рассказы» появились на свет, то вскоре выяснилось, что от читателя они отгорожены мощной стеной цензуры. В 1962 году «Колымские рассказы» уже лежат в редакции «Нового мира» Твардовского. Но и журнал, и издательство «Советский писатель» отказываются их печатать. Шаламов очень тяжело переживал отсутствие публикаций. Конечно, не из-за тщеславия. Он остро ощущал необходимость быть услышанным, говорить с читателем.
* * *
В 1962 году в редакции «Нового мира» Варлам Шаламов познакомился с Александром Солженицыным. Шаламов очень подробно и очень благожелательно анализировал только что напечатаный «Один день Ивана Денисовича», отметив, правда, и недостатки повести:
«Около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели»; «Блатарей в вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами»; «Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время…» (Письмо к А.И. Солженицыну, ноябрь 1962 года).
Как известно, решение о публикации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» принимал лично Н.С. Хрущев. Уже в самой повести были моменты, которые делали сказанное о сталинизме и лагерях не полной правдой — а полуправдой[8].
Шаламов признавал, что иначе прорвать цензурный заслон было нельзя, но для себя подобный способ провести в печать «Колымские рассказы» считал неприемлемым. А вскоре Шаламов стал замечать в своем новом знакомом такие качества, которые вызвали в нем не просто отторжение — гнев. Солженицын открылся Шаламову как «лакировщик», подгоняющий лагерную тему под социальный заказ — сначала хрущевский, а затем, после завершения оттепели — с другой стороны фронта холодной войны.
Солженицын предлагал Шаламову соавторство в работе над «Архипелагом ГУЛАГом», но Шаламов решительно отказался. Почему? Он считал, что использование лагерной темы, темы этической катастрофы человека, в идеологической борьбе — недопустимое ее снижение. Отсюда его формула: «Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудием» (<Неотправленное письмо А.И. Солженицыну>).
Скорее всего, именно симпатии к Солженицыну Н.Я. Мандельштам и диссидентских кругов окончательно оттолкнули Шаламова от последних. Но дело было отнюдь не в зависти, как некоторые считают до сих пор, а в тех самых принципах, которые он высказал в «Колымских рассказах» и своих литературных манифестах. В «Письме старому другу», посвященном делу Синявского — Даниэля, Шаламов говорит и о себе:
«Всякий писатель хочет печататься. Неужели суд не может понять, что возможность напечататься нужна писателю как воздух.
Сколько умерло тех, кому не дали печататься? Где “Доктор Живаго” Пастернака? Где Платонов? Где Булгаков? У Булгакова опубликована половина, у Платонова — четверть всего написанного. А ведь это лучшие писатели России. Обычно достаточно было умереть, чтобы кое-что напечатали, но вот Мандельштам лишен и этой судьбы».
Это письмо — единственный текст, который был написан Шаламовым специально для самиздата и отправлен в бесцензурную печать. Вскоре он разочаруется и в самиздате, отметив в дневнике: «Самиздат, этот призрак, опаснейший среди призраков, отравленное оружие борьбы двух разведок, где человеческая жизнь стоит не больше, чем в битве за Берлин» [5, 329]. Первая книга на русском языке, в которой были напечатаны (с редакционной правкой и не в авторской последовательности) три сборника «Колымских рассказов», появилась в Лондоне в 1978 году. Шаламов увидел ее уже в доме престарелых незадолго до смерти… При жизни опубликовано пять тонких поэтических сборников, обрезанных цензурой и вкусовщиной, подборки стихов в газетах, журналах и альманахах и несколько статей и очерков в журналах «Москва» и «Юность».
* * *
Сейчас кажется очевидным, что проза Шаламова, равно как и его критические и литературоведческие статьи, не могла увидеть свет даже в период оттепели. Но Шаламов наивно верил в возможность опубликовать те или иные свои произведения. Не «Колымские рассказы» — так другое. Он в разное время готовит для публикации «Очерки преступного мира», воспоминания «Двадцатые годы», очерк «Раскольников», статьи о литературе и рецензии. Некоторые — наименее резкие — статьи и рецензии даже доходили до стадии корректуры, например, как открывающая этот сборник статья «Болезни языка и их лечение». Но ничто из перечисленного не попало в печать. Из многочисленных статей о литературе до читателя дошли две: в 1963 году вышло небольшое исследование «Работа Бунина над переводом “Песни о Гайавате”», а в 1976 году в сборнике «Семиотика и информатика» стараниями Юлия Шрейдера была опубликована теоретическая статья «Звуковой повтор — поиск смысла», но она, по сути, осталась незамеченной. А между тем в этой статье Шаламов выступал в роли прямого продолжателя формалистов, находок О. Брика и Р. Якобсона, его концепцию уже в наши дни высоко оценил академик Вячеслав Всеволодович Иванов.
Отсутствие читателя — еще одна трагедия Шаламова. Варлам Тихонович очень хорошо понимал, что именно он сделал в русской литературе, он знал себе цену и как писателю, и как критику. Он судил себя по жесткой мерке двадцатых годов и сознавал, что не так уж много у него равных собеседников: Борис Пастернак, Надежда Мандельштам, Анна Ахматова и некоторые старые друзья. Шаламов был вынужден наблюдать, как бездарности и карьеристы разных сортов процветают, как на лагерной теме делается политический капитал, как поэтические находки убитых и незаслуженно забытых поэтов используются без стеснения и ссылок. Нельзя сказать, чтобы Шаламов исключал для себя всякую возможность компромисса, в послелагерные времена он отнюдь не был принципиальным оппозиционером. Но чтобы быть опубликованным при этой системе, Шаламову следовало отказаться от того, что делало его Шаламовым, автором прозы «Колымских рассказов» и стихов «Колымских тетрадей».
В воспоминаниях о Пастернаке Шаламов написал: «Теория искусства и жизни была у него законченная». Эти слова относятся к самому Шаламову даже в большей степени, чем к Пастернаку, и именно эта законченность убеждений обрекла его на прижизненную безвестность.
Но что заставляло его писать о литературе в то время, когда надежды на публикацию становились все призрачнее? Ответ на этот вопрос дает письмо к Н. Я. Мандельштам:
«Если бы мне пришлось читать курс литературы русской последнего полустолетия, я начал бы первую лекцию, как Парацельс, — сжег бы все учебники на площади перед студентами. Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити [курсив мой — С.С.]. В поисках этой утраченной связи, этой ариадниной нити разорванной, молодежь тянется наугад, цепляясь даже за Мережковского, что ранит мое сердце очень глубоко, Мережковский — совсем неподходящая фигура» [6, 412].
В своей послелагерной литературной деятельности Шаламов последовательно выступает как просветитель. Многие знавшие его рассказывают, что именно от Шаламова они едва ли не впервые узнавали о поэтах-символистах, Хлебникове, Кузмине, «Синей блузе», народовольцах и эсерах. В статьях о литературе, которые читатель найдет в этом сборнике, помимо изложения своих взглядов, Шаламов в самом прямом смысле слова просвещает читателя, рассказывая о забытых и полузабытых авторах, показывая их истинное значение для русской и мировой культуры и возвращая незаслуженно вычеркнутые имена в современный контекст. Это и очерк о Воронском, и критический анализ деятельности ЛЕФа, и потрясшее присутствовавших выступление на вечере памяти Мандельштама в 1965 году, и тончайший сравнительный анализ стихотворений Бальмонта и Межирова, Евтушенко и Маяковского. В статьях и эссе Шаламов предстает как теоретик литературы, как пристрастный критик и мемуарист, но в каждой из этих ипостасей он остается просветителем. «Восстановить связь времен» — вот цель, не менее для него важная, чем создание свидетельства о колымских лагерях. Более того — эти цели для него неразделимы. И хотя со времени написания этих статей прошло уже около полувека, приходится признать их чрезвычайную актуальность. Связь времен, очевидно, не восстановлена до сих пор. Удивляет эрудиция писателя, который, несмотря на многолетнюю изоляцию от культуры, от возможности целенаправленного чтения, тем не менее находился на самом переднем крае текущих литературных споров. Еще в тридцатые он рассуждает о «Дивном новом мире» Хаксли и ссылается на французских сюрреалистов, в шестидесятые остроумно и зло уличает модных поэтов оттепели в эпигонском повторении приемов двадцатых годов, в семидесятые сравнивает находки структуралистов и формалистов. Существующий уровень литературоведения его категорически не устраивал шаблонностью и провинциализмом. В 1973 году Шаламов писал Леониду Натановичу Черткову, автору небольшой статьи о нем в «Литературной энциклопедии»:
«Наше литературоведение, наша критика, наше стиховедение, наша поэтика не выработали еще такого коренного понятия, как поэтическая интонация. Применение его внесло бы ясность в литературный вопрос об этом поэтическом литературном паспорте, без которого нельзя исследовать стихи. Браться самому за такую неблагодарную работу у меня нет сил. Лет десять назад я стоял перед выбором: либо написать работу о стихах — “Как пишут стихи”, либо написать книгу своих рассказов. Я выбрал второе» [6, 585–586].
Действительно, в 1959–1961 годах Шаламов планировал написать один или несколько сборников трудов о поэзии, собирал для них материалы и уже подготовил несколько статей, в которых изложил свою теорию поэтической интонации[9], часть из них может считаться в большей или меньшей степени законченными. И хотя книгу он не написал, но интереснейшая теория «поэтической интонации» была им изложена. Однако до сих пор она остается практически не замеченной ни филологами, ни поэтами.
Современный читатель, разумеется, не обязан соглашаться со всем, что он прочтет у Шаламова. Но в любом случае взгляды автора заслуживают пристального внимания и серьезных размышлений хотя бы потому, что именно этому писателю удалось создать такую литературу, такой художественный язык, который не дался более никому в минувшем веке. Уверен, что и поэзия Шаламова, которая пока еще находится в тени его прозы, окажется лучше понятой после знакомства с его взглядами на русское стихосложение.
* * *
Внимательный читатель не сможет не заметить одного противоречия, которое бросается в глаза при знакомстве с шаламовскими манифестами. Их автор страстно осуждает Толстого и толстовскую традицию в русской литературе как по художественным причинам, так и по этическим. Одиннадцатая заповедь, по Шаламову, звучит так: «Не учи ближнего своего». Для писателя она особенно важна: «Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить» (<О «новой прозе»>). Тем не менее Шаламов не раз повторяет мысль, которая может показаться архаичной и странной тем, кто сформировался на модернистской и постмодернистской литературе:
«Писатель — судья времени». Цель искусства, цель поэзии, по Шаламову, — улучшение человечества. Шаламов вслед за народовольцами считал для себя обязательным принцип «совпадения слова и дела». Право на нравственный суд писатель получает только ценой собственной крови. Но даже кровь не отменяет необходимости найти форму, которая, по Шаламову, неотделима от содержания, и именно сама эта художественная форма как раз и требует исключить из нее дидактику и назидательность: «Истинное произведение искусства, способное улучшить человеческую породу, незримым и сложным способом может быть создано чаще всего не на путях дидактических» («Таблица умножения для молодых поэтов»).
«Писать стихи после Освенцима — это варварство», — заявил философ Теодор Адорно. Но и после Освенцима, Хиросимы и ГУЛАГа стихи писались. В том числе — и очень хорошие стихи. Это опровергало формулу Адорно. Но как удалось художественной литературе найти выход из тупика, «краха культуры», с которым не смогли справиться философы? Этими поисками занимались Примо Леви, Хорхе Семпрун, Гюнтер Грасс, Юрий Домбровский — и, конечно, Варлам Шаламов.
Готовую формулу ответа у Шаламова не найти. Но вся его жизнь и все его творчество от «Колымских рассказов» до литературоведческих и критических работ в итоге оказываются таким ответом.
«Я пишу не для того, чтобы описанное — не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш не нужен никому.
Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок — не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе» [5, 297].
* * *
Большая часть текстов сборника публикуется по Собранию сочинений В.Т. Шаламова в 7 томах (М.: Книжный клуб Книговек, 2013), в ряде случаев текст сверен с архивными первоисточниками, хранящимися в фонде Варлама Шаламова в РГАЛИ (Ф. 2596). Предпочтение при отборе материалов отдавалось законченным текстам, хотя читатель должен иметь в виду, что большая часть из них не имела при жизни автора ни массового читателя, ни тем более сочувственного редактора, а также не была до конца оформлена автором. Этим же обусловлены и встречающиеся повторы: Шаламов часто использовал свои статьи для подготовки новых, которые, с его точки зрения, имели больше шансов обрести читателя. Дополнительные материалы о биографии и творчестве В. Т. Шаламова читатель может найти на сайте Shalamov.ru.
Составитель благодарен за советы и помощь в подготовке сборника М.А. Арманд, А.П. Гавриловой, В.В. Есипову, Е. Михайлик, Д.С. Пономаренко, Д.В. Субботину, всем коллегам по сайту Shalamov.ru, а также редактору Виктору Кузнецову за его долготерпение.
Примечания
- 1. Примеры бывали и раньше, чего только стоят преступления рафинированных колонизаторов из Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Германии, но только ХХ век сделал «уничтожение человека с помощью государства» (Шаламов) европейской повседневностью.
- 2. Адорно Т.В. Негативная диалектика. М., 2003. С. 327.
- 3. Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы. Paris, YMKA-PRESS, 1985. С. 11.
- 4. Здесь и далее кроме специально оговоренных случаев ссылки на произведения Шаламова, не включенные в этот сборник, даются по изданию: Шаламов В.Т. Собр. соч. в 6 т. + т. 7, дополнительный. М.: Книжный клуб Книговек, 2013. Первая цифра в квадратных скобках обозначает номер тома, вторая — страницу.
- 5. Райзман Д. С. Рождение валютного цеха страны // На севере дальнем. № 1 (94). 2013. С. 232. Относительно этих данных еще идет дискуссия, связанная с неполной доступностью всех документов, но, судя по всему, сам порядок цифр вряд ли будет пересмотрен даже после полного открытия всех архивов.
- 6. «Смещение масштабов» — именно это словосочетание не раз употребляет Шаламов для описания лагеря.
- 7. Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции / Сб. статей. Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 204.
- 8. В этом с Шаламовым оказался солидарен другой писатель-лагерник — Олег Волков, автор первой (внутренней) рецензии на «Колымские рассказы» для издательства «Советский писатель». Сравнивая рассказы Шаламова с повестью Солженицына, Волков писал: «Представленные Шаламовым рассказы убедительно говорят о том, что “Один день Ивана Денисовича” Солженицына не только не исчерпал темы “Россия за колючей проволокой”, но представляет пусть талантливую и самобытную, но еще очень одностороннюю и неполную попытку осветить и осмыслить один из самых страшных периодов в истории нашей страны. Здесь не место подробно останавливаться на повести Солженицына, однако можно сказать, что восприятие системы принудительного труда его героем оставляет незадетыми ворохи жгучих вопросов, невольно встающих перед читателем. Малограмотный Иван Шухов в некотором смысле лицо, принадлежащее прошлому — теперь не так уж часто встретишь взрослого советского человека, который бы воспринимал действительность так примитивно, некритически, мировоззрение которого было бы так ограничено, как у героя Солженицына. Его повесть лишь коснулась ряда проблем и сторон жизни в лагере, скользнула мимо, не только не разобравшись, но и не заглянув них. <…> В рассказах Шаламова не встретишь и намека на тот “трудовой энтузиазм”, который на стольких страницах описал Солженицын, рассказывая о своем Иване Денисовиче. Следует сказать, что тому не досталось испить до дна чаши лишений, обид и унижений, какие пришлись на долю колымцев. Будь Шухов в условиях Колымы, и он, возможно, стал бы “шакалить”, рыться в отбросах и привык страшиться работы» (Соловьев С. М. Олег Волков — первый рецензент «Колымских рассказов» // Знамя, 2015. № 2).
- 9. Рабочие названия сборников: «О стихах», «Поэт и современники», «Заметки о стихах». РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 124, 125, 127, 130/
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.