
Последнее письмо
(Д. С. Лихачев и В. Т. Шаламов)
Обозначенная в подзаголовке тема о духовных связях Д. С. Лихачева и В. Т. Шаламова в пространстве русской культуры заслуживает серьезных и глубоких исследований, которые, будем надеяться, со временем появятся. Пока же ограничимся тем небольшим, но важным материалом, что лежит почти на поверхности и требует предварительного осмысления.
Сохранился один уникальный документ, непосредственным образом связывающий судьбы академика и писателя. Речь идет о письме Лихачева Шаламову от 20 сентября 1979 года. Это было последнее из множества писем, полученных писателем от разных людей в течение жизни. Последним, в соответствии с хронологией, оно опубликовано и в шестом томе собрания сочинений Шаламова, включающем его переписку. Факт сам по себе символический, но важнее всего содержание этого маленького письма:
«Дорогой Варлам Тихонович, захотелось написать Вам. Просто так!
У меня тоже был период жизни, который я считаю для себя самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и «соотечественников». Сотни людей слабо мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко.
Никто ничего не знает. А жизнь была очень значительной.
Вы другое дело. Вы выразили себя и свое.
Об этом только и захотелось написать Вам.
Ваш Д. Лихачев».
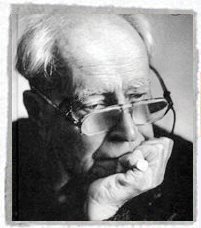
Сам тон этого письма, наполненного и собственными печалями, и огромным уважением к писателю, вряд ли мог быть иным, учитывая совершенно особую ситуацию. Напомним, что к тому времени Лихачев обладал огромным общественным авторитетом (в 1969 году за книгу «Поэтика древнерусской литературы» он был удостоен Ленинской премии). А обращался он к писателю, отринутому и властью, и обществом.
Но есть у этого письма и другой, гораздо более горький подтекст.
Шаламов в это время находился в крайне тяжелом — и физически, и морально — состоянии, которое вернуло его к состоянию колымского доходяги (но уже с учетом необратимых последствий 72-летнего возраста, почти полной глухоты и слепоты). Еще в мае 1979 года он был помещен в дом престарелых и инвалидов на улице Лациса в Москве. Когда Лихачев об этом узнал — скорее всего, через круг знакомых литераторов — он направил свое письмо именно на адрес последнего казенного пристанища Шаламова. Ирина Павловна Сиротинская, постоянно навещавшая писателя, сообщила автору этих строк, что, когда она увидела письмо академика на тумбочке в палате, оно было раскрытым, то есть, была вероятность, что Шаламов мог его с чьей-то помощью прочесть, по крайней мере, ощутить доброжелательный посыл. О написании ответа, учитывая состояние писателя, речи уже не могло быть.
Вряд ли Д. С. Лихачев догадывался о настоящей степени тяжести всего положения Шаламова. Но письмо можно считать знаком высочайшего благородства с его стороны — стремления протянуть дружескую руку в несчастье, «помочь в немой борьбе» (Александр Блок). Нельзя не учитывать, что после известного обращения Шаламова в «Литературную газету» 1972 года с протестом против публикации своих «Колымских рассказов» на Западе, от него многие, даже недавние близкие, отвернулись, он подвергся так называемому «либеральному террору» в среде московской интеллигенции и оказался в духовной изоляции. Его, живого, стремились похоронить. Это не могло не сказаться и на его здоровье. Письмо Д. С. Лихачева, хоть и с опозданием, разрушало изоляцию, напоминая о нерушимой этике гуманизма и милосердия.
Самое важное в этом письме — простота и ясность той высокой оценки, которую давал творчеству Шаламова величайший знаток русской литературы. Эта оценка несла в себе два неразделимых в России измерения — художественное и нравственное. Именно такой смысл заключен в словах: «…Никто ничего не знает… Вы другое дело. Вы выразили себя и свое». Ведь многие, прошедшие через лагеря, остались немы, откладывая свои свидетельства о пережитом на извечное русское «авось», «до лучших времен» (себя Лихачев, как видим, не исключал из их числа — его полные воспоминания о Соловках создавались гораздо позже) [1].
С другой стороны, «выразить себя и свое» дано только большому художнику, а не безыскусному летописцу. Автор «Поэтики древнерусской литературы» понимал это более, чем кто-либо. И исследователям еще предстоит проанализировать, как соотносится поэтика прозы Шаламова с теми процессами в древнерусской литературе, которые проследил великий ученый, на примере, скажем, сопоставления проблемы художественного времени у летописцев и у протопопа Аввакума — любимого исторического героя и Шаламова, и Лихачева. Потрясающая поэма Шаламова «Аввакум в Пустозерске» не могла пройти мимо внимания ученого, внимательно следившего за современной литературой, в том числе ходившей в самиздате. Недаром он заключил главу о неистовом протопопе в своей академической книге вполне шаламовской по духу метафорой: «Аввакум горел на огне, жегшем его изнутри…» [2].
Уже обозначенных нами моментов достаточно, чтобы говорить не только о большой степени духовного родства писателя и ученого, но и о своего рода постоянной перекличке их во времени и пространстве (хотя они не были лично знакомы и никогда не встречались). Не случайно Д. С. Лихачев стал автором ряда предисловий к первым публикациям произведений Шаламова в конце 1980-х годов — фактически «пробивал» их в достаточно зыбкое время, и недаром именно в журнале «Наше наследие», выходившем под эгидой возглавлявшегося им Фонда культуры, впервые появилась в свет в 1988 году «Четвертая Вологда» (к старинной Вологде академик питал особую любовь, о чем говорил во время своего приезда в город в 1978 году).
Вся эта неустанная забота об особо ценимом писателе может иметь и лично-биографические, и духовно-культурные объяснения. Во-первых, они были не просто людьми одного поколения, а ровесниками — будущий академик родился всего на полгода раньше будущего писателя, 28 ноября 1906 года, и его столетие недавно широко отмечалось во всей России. Во-вторых, с ранних лет оба они проявили блестящие способности в области гуманитарных (главным образом, литературных) знаний и впитали в себя высокие понятия о нравственности и чести, свойственные традициям русской интеллигенции. В связи с этим нельзя не вспомнить печальный афоризм Шаламова: «Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция». В отношении Лихачева (хотя, может быть, и не зная подробностей биографии ученого) Шаламов стопроцентно угадал.
Как известно, в 1928–1932 годах Д. С. Лихачев находился в Соловецком лагере особого назначения, а Шаламов, почти синхронно, в 1929–1932 годах в Вишерском лагере на Северном Урале (между прочим, он считался филиалом Соловецкого лагеря). Правда, причины, по которым они туда попали, были разными — в одном случае, безобидный филологический кружок «Космическая академия наук», в другом — участие во вполне конкретной и опасной антисталинской политической оппозиции, с печатанием листовок, участием в демонстрациях и так далее. Но оба факта имели общий исторический знаменатель: с конца 1920-х годов в стране воцарилась совершенно иная атмосфера, нежели мечталось молодым гуманитариям. Им повезло в эту страшную эпоху в главном — они остались живы.
В словах академика в письме 1979 года, что у него тоже был «период, который он считает самым важным для себя», нельзя не увидеть знака общности судеб. Конечно, Дмитрий Сергеевич ясно осознавал, какая пропасть лежала между Соловками и Колымой. Но за его спиной было тоже еще одно тяжкое испытание — ленинградская блокада. Блокада, между прочим, унесла жизней гораздо больше, чем Колыма. Лихачев не проводил таких параллелей, но те, кто прочтут его воспоминания о блокаде и сравнят их с «Колымскими рассказами», найдут немало общего. «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. Мозг умирает последним: тогда,когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других», — это ли не парафраз шаламовской прозы? [3]
Но надо говорить, наверное, не только о том, что они оба пережили, но и о том, кем они стали после всех перенесенных испытаний. Ведь и бывшие заключенные вели себя по-разному. Существовали люди, которые сделали лагерную тему своим способом самоутверждения, даже заработком, своего рода бизнесом. Этим людям было свойственно и бахвальство своим опытом, тюремно-блатной субкультурой. Ничего подобного мы не замечаем ни у Лихачева, ни у Шаламова. И это тоже признак настоящей русской интеллигентности. Между прочим, будущий академик написал свою первую научную работу именно на Соловках и посвятил ее изучению особенностей уголовного жаргона. Под выразительным названием «Черты первобытного примитивизма воровской речи» она была опубликована в 1935 году в научном сборнике «Язык и мышление». О яростно-непримиримом отношении Шаламова к блатному миру хорошо известно из его произведений.
Никто не отважится утверждать, что Лихачев не смог реализовать себя как ученый в советский период. Скорее, наоборот — вопреки всем обстоятельствам времени, и благодаря тому, что он занимался фундаментальными, не сиюминутным проблемами, ему удалось по-настоящему проникнуть в глубины русской истории и культуры, понять ее изнутри, на основании опыта столетий (тысячелетий), когда бывали и еще более суровые лихолетья. При этом ему удалось сохранить — что особенно важно — и дистанцию от официальной идеологии. В свое время Л. Я. Гинзбург очень обижалась на слово «филоложество» (его употреблял Маяковский, когда речь шла якобы об уходе филолога от жизни, от потребностей общества). Иногда говорят и об уходе Д. С. Лихачева в древнерусскую литературу как в «эмиграцию». Нет ничего более ошибочного. Ни «внутренним эмигрантом», ни, тем более, диссидентом, академик никогда не был. Шаламов тоже решительно открещивался от подобных ярлыков, политиканство ему было абсолютно чуждо. Так же вели себя и другие честные писатели и ученые, даже те, кто вынужден был эмигрировать. Один из них, замечательный петербургский филолог Е. Г. Эткинд писал: «На Западе нередко сталкиваешься с полным отрицанием того, чем жила интеллигенция Советского Союза на протяжении почти 60-лет… Словно имело место только одно: насилие власти над умами и душами. Это — вульгаризация, а значит, искажение реальности, ведущее к ложным выводам и логическим тупикам. Российская культура пробивала себе дорогу, одолевая преграды, которые воздвигали на ее пути гасители мысли, разрушители поэзии, душители театра, живописи, музыки. Скажу больше: борясь за право дышать и жить, культура крепла. Этот процесс заслуживает изучения…»[4] (а не высокомерного и легковесного обличения — добавим мы).
О том, что для Д. С. Лихачева сохранение российской культуры было смыслом всей жизни, прекрасно известно всем. Но той же идеей жил по большому счету и В. Т. Шаламов, когда создавал и стихи, и рассказы, и эссе. Свою приверженность традициям «лучших людей России» он демонстрировал и гордым, независимым поведением. Знаменательны его слова в письме к Н. Я. Мандельштам: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разорвана, и наша задача восстановить, связать концы этой нити».
Нельзя не коснуться еще одной острой проблемы, близкой Лихачеву и Шаламову — о противоречиях русского национального характера, о его не только положительных, но и отрицательных чертах. Одна из последних крупных статей академика, написанная в 1994 году, называлась многозначительно — «Нельзя уйти от самих себя». С одной стороны она — против исторической напраслины на русский народ и самоуничижения (это продолжение темы известных «Заметок о русском»). Но с другой — в статье необычайно трезвый и критический взгляд на негативные черты национального характера: «Совершенно правы те, кто говорит о склонности русских к крайностям во всем…Центристские позиции тяжелы, а то и просто невыносимы для русского человека. Это предпочтение крайностей во всем в сочетании с крайним же легковерием вызывало и вызывает до сих пор в русской истории десятки самозванцев… Несчастье русских — в их легковерии».
Здесь много сходства с мыслями Шаламова. Конечно, у автора «Колымских рассказов» взгляд на проблемы русской истории, на национальный характер гораздо жестче, можно сказать, пессимистичнее, и часто наполнен горькой трагической иронией. Но самое важное, что направление мысли у писателя и у академика — общее, критическое, и это надо учитывать нам, потомкам великих и взыскательнейших людей русской культуры. По крайней мере, учиться избегать крайностей и не быть слишком легковерными. (Речь не только о каких-нибудь очередных политических выборах, но и о них тоже).
Глубина и значение личности Д. С. Лихачева для России только начинают раскрываться. Больше всего для этого делается в Петербурге, его родном городе. Издаются книги (можно выделить прекрасную книгу А. С. Запесоцкого «Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог», в которой ученый, наконец-то, предстает в полном объеме своего поистине ренессансного энциклопедизма); Гуманитарным университетом профсоюзов, с которым тесно сотрудничал академик в последние годы, открыт в Интернете информационно насыщенный сайт (lihachev.ru.). Чрезвычайно интересный очерк опубликовал к столетию ученого и журнал «Санкт-Петербургский университет». Особенно примечателен вывод автора М. В. Иванова о том, образ какого интеллигента являл собой Лихачев — «не бесхребетного мечтателя, а ответственного, устремленного к идеалу, уравновешенного,самостоятельно думающего человека, знающего тайну совершенного владения этикетом и стилистикой поведения. Как говорил Альберт Швейцер, личный пример — не просто лучший, это единственный способ убедить».
Помня о том, что главным, святым принципом жизни В. Т. Шаламова являлось соответствие слова делу, мы глубже поймем духовные нити, связывавшие прославленного ученого с великим русским писателем, умиравшим в больнице для инвалидов…
Из книги: Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. – Вологда: Книжное наследие, 2007 – С. 262-268. В ближайшее время эта книга целиком будет выложена на сайте Shalamov.ru.
Примечания
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.