
Об одной хлебниковской реминисценции у Варлама Шаламова
В сложной реконструкции Шаламовым колымского лагерного универсума возникает особый мета-языковой план, связанный с морозом. Воплощение пережитого блокируется физическим ощущением холода — в рассказах его неоднократно говорится о том, что на морозе невозможно мыслить и осознавать, невозможно писать. «При холоде холод не вспоминается. Обстоятельства жизни тут не вспоминаются, просто существует боль, которую надо снять». С другой стороны воспоминание о холоде не оставляет человека, его невозможно изгнать. «Холод же так страшен, что может вспоминаться при любой температуре.» «Колыма в моей душе в любой жаре.»[1] Поэтому и в постлагерном существовании писателя не существует «безопасного» письма — сам акт письма сопряжен с риском «замораживания» себя в событии. При этом писателю не дана возможность «заморозить» событие в себе, чтобы извлечь его как бы в готовом виде и выплеснуть на бумагу — он должен снова и снова искать адекватный язык для воссоздания того, что было пережито в рамках иного, не доступного читателям языка. Поиск такого языка и является основным творческим актом при реконструкции опыта и его передаче. Причем поиск этот непрестанно возобновляется, ведь такой адекватный язык не может быть найден раз и навсегда, его обретение является всякий раз новым событием — преодолением некоего предела, черты, из которой и рождается текст — и которая в следующее же мгновение стирается, растворяется.
Такой язык получил название в текстах Шаламова, вернее это наименование пришло из самого лагерного быта.
«Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали только мороз свыше 55 градусов. Ловился этот вот 56ой градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шопот звезд». Этот шопот звезд нами был усвоен быстро и жестоко.»[2]
Можно предположить, что якуты, называющие таким образом звук мороза, не имели не малейшего представления о звездном языке Хлебникова, и что сам Хлебников вряд ли руководствовался якутской метафорой, создавая свой звездный язык. Зато не подлежит сомнению, что Шаламов был хорошо знаком с творчеством Хлебникова и что в данной метафоре, он не мог не усмотреть реализацию определенного среза хлебниковского текста. Футуризм и Хлебников в частности занимали Шаламова в 20 годы и если он был слишком молод, чтобы сознательно наблюдать за развитием этого течения — собственно его собственный литературный путь начался после смерти Хлебникова — то он стал свидетелем литературной полемики, связанной с футуризмом, в частности, обвинения, адресованного Маяковскому, в присвоении хлебниковских текстов и плагиате. В восстановленном по памяти уже в начале бО-х эпизоде, явно отчасти стершимся, упомянуты именно звездные метафоры: «хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов». Причем Шаламов ошибочно относит эту цитату к «Устругу Разина», тогда как она взята из поэмы «Ладомир». Это лишний раз показывает, что не имея под рукой текстов Хлебникова, он полагается на свою память, которая его подводит. Но при этом сохранена стихотворная строка, звездная цитата, что говорит о ее важности и актуальности в момент написания «Воспоминаний». Разумеется, Шаламов приходит к выводу, что «разговор с солнцем» Маяковского не является плагиатом, но ставя вопрос о плагиате он собственно вписывает собственное творчество в интертекстуальное пространство «разговора» с другими писателями, в частности с Хлебниковым. У Шаламова к тому времени есть опыт ретроспективного участия в литературных разговорах — так, например, его лагерный Данте отчасти вышел из «Разговора о Данте» Мандельштама — а отсюда начинается разговор с Мандельштамом и о Мандельштаме, где ставится под вопрос сама возможность говорения, повествования.
Творчество Хлебникова было ему хорошо знакомо. «В моей поэтической судьбе мне был близок раньше Хлебников, чем Пушкин»[3]. Хлебников — юношеское чтение Шаламова и, как мы видим, зрелый Шаламов плохо помнит его творчество. Но он помнит свое восприятие Хлебникова. Читал он его в ленинской библиотеке — для того, чтобы ознакомиться с оригинальными изданиями, понимая всю важность материального аспекта футуристических текстов. Шаламов придавал значение оттиску, телесной природе книги, у него документ, свидетельство рождаются из камня, из земли, из вещного материала — в этом отношении програмным текстом является рассказ «По снегу», открывающий сборник Колымских рассказов, в котором описывается прокладывание дороги — метафора письма. Сам он писал простым карандашом в ученических тетрадях, считая карандаш инструментом вечности, ибо им топографы ставят метки на срезах деревьев и им пишутся номера на бирках, привязанных к ногам умерших.
В этой связи представляется возможным постулировать, что если хлебниковский пласт и не является наиболее мощным среди интертекстуальных прослоек шаламовской прозы, где доминируют Пастернак и Мандельштам, именно к этому пласту следует отнести звездные метафоры Шаламова. Среди них в прозе выделим две. В рассказе «Дождь»: «Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный». И в рассказе «Сгущеное молоко»: Его «надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...» И далее: «Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту /.../ банку сгущеного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко»[4]. Образ звездного неба, возникающий в этих рассказах, соотносится не с какой-то абстрактно-возвышенной реальностью, противопоставляемой лагерной — Шаламов нам доказывает во всех своих текстах, что такой реальности не существует — и не с просто с архетипами космического пространства, но с этими архетипами, почерпнутыми из поэтики футуризма и в частности переосмысленными Хлебниковым, так например синяя, как ночное небо банка, в рассказе, где речь идет о побеге, напоминает «свод синезначимой свободы» (1908) Хлебникова.
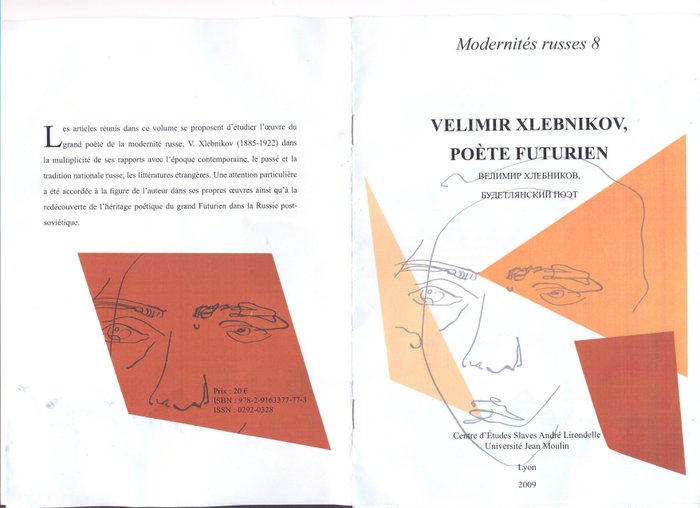
Звездная метафора тесно связана с ситуацией распутья, выбора — в обоих текстах герой в результате выбирает жизнь, вернее выбираем ею — дается выход жизненной силе, которая хранит его в лагере. В рассказе «Дождь» повествователь отказывается от членовредительства и от самоубийства после того, как безуспешно пробовал сломать себе ногу, опрокинув на нее камень в забое, «...сам не знаю, как это случилось — я отдернул ногу.» «Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу»[5]. В рассказе «Сгущеное молоко» он принимает решение не участвовать в побеге, организованном солагерником-стукачем и таким образом спасается от смерти. При внимательном прочтении шаламовского текста становится ясным, что звездные вопросы — ни что иное как вопросы о жизни и смерти, то есть вопросы о пограничных состояниях, о том узловом состоянии бытия, где эти категории переплетены между собой. Именно с этими вопросами связана задача построения особого языка. «Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть — духовная и физическая?» То есть звездные вопросы ориентированы на поэтику предела. Они отсылают прежде всего к надтекстовой структуре, к тому плану, из которого совершается акт говорения и который спроецирован вовне, в мета-реальность. Собственно, у Шаламова осмысление момента говорения и права на него всегда впаяно в текст: право очевидца на письмо оспаривается тем же очевидцем, обретшим свою долагерную телесность и, следовательно, выпавшим из языка, в который был вписан опыт. «Разве кожа, которая наросла, новая кожа, костевые мускулы имеют право писать?»[6] Поэтому можно предположить, что Шаламову были наиболее близки именно те тексты Хлебникова, в которых язык проистекает из самой немоты, из невозможности репрезентации, как например:
«Мы все заглянули
В пропасти злые.
Мы все отшатнулись,
Немые! Немые!
Или «Когда умирают люди — поют песни».
С этими стихотворениями можно сопоставить такие высказывания Шаламова, как «Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть» или появление самого Шаламова в качестве немого персонажа в тексте о Мандельштаме.
Поиск особого надтекстового языка, который мог бы вселить новую динамику в соотношения между означаемым и означающим лежит в основе Колымских рассказов. Элементы такого языка фиксируются в многочисленных текстах — они, собственно, обретаются в сдвигах и прорывах. Язык лагеря как таковой является замкнутой структурой, он отличается с одной стороны своей крайней бедностью, то есть в нем сохранены лишь основные слова, связанные с жизненно важными реалиями — едой, сном, работой: «Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, дождь, пайка, оставь покурить — двумя десятками слов обходился я не первый год»[7]; а с другой, тем, что в отличие от любого другого натурального языка он полностью охватывает весь лагерный мир и никак не свидетельствует о своей неполноценности. «Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.»[8] Состояние счастья — успокоения в языке — говорит об отсутствии зазоров, о том, что знаки плотно прилегают к реалиям, заражаясь их предметностью и в свою очередь передавая им знаковость. В лагерном мире предмет или явление становится знаком, как мы видели это на примере мороза или замерзающего на лету плевка, тогда как слово становится предметом, явлением, ибо оно существует неотрывно от балласта жизни и смерти, которое в нем заложено. Слова «пайка», «дождь», речевой акт «оставь покурить» — суть высказывания-вещи, непосредственно выражающие, проговаривающие феномен выживания, переживаемый в первую очередь в языке. Нарратив, соткавшийся из таких речевых предметов, к которым привязаны проблемы жизни и смерти, непереводим на язык читателя, ибо в нем отражены с одной стороны полнота соответствий между миром и говорением о мире, а с другой — прерывность самого субъекта речи, существующего от слова к слову, от события к событию, добывающего себя из языка в виде разрозненных, распыленных смыслов. Преодоление репрезентативных функций речи совершается путем «приклеивания» знака к предмету, идентификации предмета и ослабления коннотативной активности слова: «суп» — это собственно та миска, которую я держу в руке. Такая семантическая нагруженность слова ограничена лагерным пространством, не выплескивается в повседневную речь, которая поэтому и не может передать лагерной действительности. Шаламов в первую очередь свидетельствует именно об этом — о неадекватности используемого языка и неудаче всякой репрезентации. Да и любое подлинное свидетельство о лагере — это свидетельство о неконвертируемости некоего первичного текста о пережитом. «На каком языке говорить с читателем? /.../ Весь мой дальнейший рассказ /.../ неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль. Ни разу за эти годы я не восхитился пейзажем — если что и запомнилось, то запомнилось позднее. /.../ Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль и это была? /.../ Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать?»[9]
Иначе говоря, все звездные вопросы возникают уже на уровне реконструкции, а не на уровне переживания и касаются именно проблемы конфигурации реальности.
Разорвать пресыщенное семантическое пространство может лишь вторжение метаязыка, который об этом пространстве повествует, но ему не принадлежит. В рассказе «Сентенция» именно извне герою является забытое слово, характерное тем, что оно в первый момент непонятно ему самому, для других же звучит как иностранное.
«Сентенция! Орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. Сентенция! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский.»[10]
Семантическая углубленность слова в контексте К. Р. приводит к тому, что означающее отлепляется от привязанного к нему в языковой практике означаемого и вступает в новые знаковые отношения с миром, становится в свою очередь означаемым, фактом возвращения к жизни, то есть элементом уже нового языка, в котором слово является не понятием, а именем, наименованием нового жизненного состояния: «Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка»[11]. Речка является у Шаламова воплощением живого. «Река было не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью.»[12] Имена рекам и поселкам дает «хозяин земли» — картограф, человек, конвертирующий пространство, переводящий его из категории смерти в категорию жизни[13].
При этом понимание совершенно необязательно. «Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода.»[14] Слово живет своей жизнью и вступает в синтаксические связи с миром независимо от своего денотата.
Конечно, нельзя утверждать, что Шаламов заумник — в отличие от Хлебникова, он не говорит с читателем на звездном языке, он лишь намекает на то, что есть некий язык, в котором действуют иные знаковые отношения, язык, который не ориентирован на изображение, не повествует ни о чем, но будучи сам конкретной данностью, может в свою очередь стать объектом репрезентации. Интересно, что слово «сентенция» возникает в буквальном смысле «за» умом, в затылочной части мозга, «под правой теменной костью». То есть оно рождается не в том замкнувшемся, неподвижном лагерном языке — из которого ничто не может родиться — а извне, из-за него, выброшенное в него из над- предикативной звездной структуры. Это выбрасывание, нарушающее застывшую — замороженную — континуальность знаковых отношений являет собой эпифанию, вновь конфигурирующую мир, заставляющую его проистекать из новой точки — точки разрыва. Такая точка упоминается в метафорическом описании реки: «Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вниз деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...»[15] Событие слова, в буквальном смысле со-бытие слова с субъектом, на мгновение обретшем себя в континуальности культурного кода — слово сентенция напоминает о Риме, оно вписано в текст культуры — и в то же время вынутом из нее, ибо его бытие это лишь вспышка слова — событие это является в некотором смысле неиндивидуальным, отчужденным, то есть именно оно индивидуализирует героя, определяет его контур, делает его тем, кто он есть, конструирует его в новом языке. В свою очередь этот язык событиен в силу своей соотнесенности с вопросом смерти, с потенциальным горизонтом любой речи, открывающим анонимное в событии, безличное, отсутствие субъекта. Феномен разрыва, спровоцированного словом «сентенция» приводит к переориентации всего мира и возникновению у героя возможности бытия, расположенности к бытию, не чисто фиктивной возможности, а онтологической зацепленности в мире. Каждое слово нового языка претендует как таковое на статус события: «Каждое возвращалось по одиночке, без конвоя других знакомых слов — то есть без контекста — и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу».
Мне представляется, что такая феноменология, предполагающая говорение из некой экстремальной точки, ориентируется именно на хлебниковский звездный язык: бытие субъекта постулируется из языка как предельный речевой акт, совершаемый со всей ответственностью в перспективе исчезновения собственного «Я». Шаламову, по всей вероятности, была близка затронутость историей, проявившаяся во всем творчестве Хлебникова, а также идея повторяемости истории. Мифологическая историография Хлебникова и его эсхатология — проистекание исторического события из «последнего мига» как формула инверсии времени — претерпевает у Шаламова иную феноменологическую обработку. Не зря Шаламов в своих воспоминаниях ошибочно отсылает к «Устругу Разина». Ему безусловно запомнился именно разинский пласт, отголоски которого можно найти в шаламовских стихотворениях о стрелецкой казни или о боярыне Морозовой. Но и помимо исторических реминисценций, используемых для описания актуальных состояний, Шаламову близко переживание мира с конца, ибо именно конец является у него точкой отсчета повествования — местом, из которого ведется рассказ и с которого начинается авторство, о чем можно сказать словами Бланшо: «В процессе письма автор переживает себя как действующее небытие»[16].
В заключение можно заметить, что хлебниковская аллюзия у Шаламова является строительным материалом, используемым для конструирования метаязыка, благодаря которому вне-языковые или доязыковые состояния обретают место в тексте русской и европейской культуры. Шаламов считает себя первопроходцем — именно его перу довелось впервые в русской литературе зафиксировать такие пограничные состояния, поэтому естественен его диалог с другим новатором — Хлебниковым, подвергшим радикальному пересмотру знаковые возможности слова с тем, чтобы высвободить в языке место смерти, обнаружить такую точку, из которой единственно можно свидетельствовать о мире. Будучи тоже свидетелем, хотя и иного рода, Шаламов превращает литературный топос в онтологическую данность, о чем и говорит фраза: «Этот шопот звезд нами был усвоен быстро и жестоко».
Примечания
- 1. Шаламов В.Т. О моей прозе // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.4. М.: Вагриус, 1998. С.381.
- 2. Шаламов В.Т. Воспоминания // Шаламов В.Т. Новая книга. М.: Эксмо, 2004. С.163.
- 3. Там же. С.16.
- 4. Шаламов В.Т. Сгущеное молоко // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.1. М.: Вагриус, 1998. С. 71
- 5. Шаламов В.Т. Дождь // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.1. М.: Вагриус, 1998. С.28.
- 6. Шаламов В.Т. Перчатка // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.2. М.: Вагриус, 1998. С. 280.
- 7. Шаламов В.Т. Сентенция // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.1. М.: Вагриус, 1998. С. 362.
- 8. Там же. С.361.
- 9. Шаламов В.Т. Воспоминания // Шаламов В.Т. Новая книга. М.: Эксмо, 2004. С.149.
- 10. Шаламов В.Т. Сентенция // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х т. Т.1. М.: Вагриус, 1998. С.362.
- 11. Там же. С.363.
- 12. Там же. С.362.
- 13. См. также рассказ «Графит»
- 14. Там же. С.363.
- 15. Там же. С.363.
- 16. Бланшо М. Литература и право на смерть. Пер. С.Зенкина // Новое литературное обозрение. №7, 1994. С.83.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.