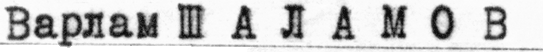
От свидетельства к литературе
Уважаемые коллеги[1], сначала я хотел ограничиться формальным приветствием. Для «Мемориала» было естественно принять участие в этой конференции, на которую нас пригласили замечательные молодые люди с сайта Shalamov.ru, поискать историков, занимающихся соответствующей темой. Но все-таки сейчас хотелось бы сказать несколько дополнительных слов. Мне кажется, что значение Шаламова и место Шаламова в нашей жизни – я не имею в виду только прозу, я имею в виду в нашей жизни вообще – с каждым годом или с каждым десятилетием становится все отчетливее, и ясно, что оно не просто значительно, а, как мне кажется, огромно. Бывают такие случаи, когда понимание каких-то вещей приходит постепенно.
Думаю, что в сегодняшней общественной дискуссии о преступлениях прошлого, которую упомянул Теодор Шанин в начале нашей конференции, шаламовская проза занимает очень важное место. Многие историки – неслучайно их голос так мал, слаб и хил в этой дискуссии – предоставили нам множество фактов и какие-то свои частные интерпретации того страшного, античеловеческого мира преступления. Но никто из них не смог воссоздать картину этого мира. Но ее – эту картину, вот этот образ, создал один человек – Варлам Тихонович Шаламов.
Я много думал о том, что делать историкам по отношению к Шаламову, и позволю себе здесь этими соображениями поделиться. Историки собирают факты, что-то интерпретируют, откуда-то берут документы, говорят: «было / не было» и пишут реальный комментарий. Что эти реальные комментарии могут добавить, допустим, к рассказам Шаламова? Уличить Шаламова в двадцати пяти неточностях? Сказать, что такой-то не занимал такую-то должность: например, не был замечательный человек Андреев генеральным секретарем общества политкаторжан, а был рядовым членом этого общества? Кто-то там не был организатором комсомола, а кто-то не занимал какую-то должность в лагере. Все это мелочевка, и она ничего не прибавляет к Шаламову и к тому миру, который он создал.
Поделюсь таким сюжетом. Я читатель Шаламова на протяжении 40–45 лет, по крайней мере, с 70-х, а может быть, с конца 60-х. Ясно, что я, как и все, двигался от восприятия рассказов как свидетельств, потрясающих свидетельств. И вот в одном рассказе меня действительно поражают какие-то вещи, я думаю: «Этого не может быть». Я говорю сейчас о рассказе «Почерк». Это рассказ о человеке, который переписывал расстрельные списки. Меня там поразили две вещи. Первая: Шаламов описывает, как каждую ночь по бараку бегали налетчики и обыскивали людей, будя их по каким-то спискам. Для историка это невозможная вещь. Мы же знаем, что не могут из барака человека взять просто так на расстрел, такого не бывает. Человека сначала арестовывают, ведут во внутрилагерную тюрьму, штрафной изолятор, там проводят следствие, он получает приговор, после этого уже расстреливают, но чтобы взяли просто из барака – нет, такого не бывает. И я это твердо понимал, даже будучи студентом историко-архивного отделения. И другой сюжет. Герой рассказа, следователь, берет и рвет дело. Такого тоже не может быть! Дело учтено в стольких журналах, в стольких местах, что порвать дело – это значит практически застрелиться, за это завтра тебя арестуют, то есть такой следователь будет обречен. И так я думал и так мучился до тех пор, пока мы не обнаружили в 90-е уже годы мало известную и до сих пор почти не опубликованную так называемую «Директиву-409» по проведению лимитных операций в лагерях. И что же выясняется? Это лагерная операция, кусочек массовой операции, которая шла на воле. Она по тем же самым признакам проходила в лагере с августа 37-го по октябрь 38-го года. Ну, допустим, выдаются расстрельные лимиты на лагерь. Из лагеря они распределялись на лагерные пункты, на одном из которых, условно, сидит у нас Варлам Тихонович Шаламов. Далее, что же происходило? Для того чтобы осудить человека, его арест был не нужен и не предполагался. Брались доносы, внутренние доносы лагерного наблюдательного дела, на основании этого начальник оперчасти – вернее, сначала рядовой оперативник – писал заключение. После чего вот эта бумажка, заключение лагерного оперативника, вместе с копиями нескольких доносов – доказательствами – скреплялась и отсылалась на тройки. При этом во всех лагерях это были тройки региональные, и в единственном лагере страны была организована специальная тройка – это на Колыме, там, где сидел Шаламов. Там была специально своя тройка – чтоб не гонять дела в Хабаровск. Что же получается? С тройки приходило, иногда просто по телефону, иногда в письме, подтверждение, что все эти люди приговорены к расстрелу – а лагерная операция была стопроцентно расстрельная. Тем временем люди работали, они ничего не знали, это все происходило за их спиной. Они выходили на работу, лежали в больнице... выходили и не знали, что идут на расстрел. То есть то, что я считал невозможным, оказалось возможным – один-единственный раз в отечественной истории! Один раз в ГУЛАГовской истории, а именно – вот в этот кусочек 37–38-го года.
И второе. Лагерному оперу, начальнику оперчасти, начальнику третьего отдела этого маленького лагерька, подпункта, приходила только цифра: вы должны выдать 50 или 70 человек. Список людей, кого туда отобрать, зависел исключительно от него, больше ни от кого, никем не проверялся и никем не контролировался. Вот в этой 409-й директиве замечательно написано: начальники третьих отделов на основании имеющихся материалов оперучета составляют на каждого подлежащего репрессированию подробную справку, и дальше справки подписываются начальником третьего отдела, начальником лагеря и направляются на решение тройки. Понимаете? Это не подлинное дело – бывают дела, как вы знаете, трех видов: следственное дело, личное дело заключенного и оперативное по наблюдению за заключенным в лагере. А это не первое, не второе и не третье, учтенные везде. Это четвертое, это фитюлька из трех-четырех бумажек, которые он правда мог спокойно порвать, увидев знакомую фамилию, потому что младший опер ему не того вставил. Этого Шаламов не знал – что если рвали дело, то обязательно брали на это место кого-то другого. Понимаете?
С каждым годом чувствую, что все больше отхожу от идеи документа. И с каждым годом все более чувствую, что Шаламов – это великая проза. А теперь я понимаю, что это великая проза, выдержавшая испытание документом. Это удивительная история! И поэтому мне кажется, что историкам, конечно, это все нужно как-то собирать факты, но вообще-то надо признаться, что это материал не для архивистов, а все-таки для историков, для философов. Поэтому я возлагаю большие надежды на то, что системная работа историков на конференции – это только начало большой системной работы по сбору материалов, которым потом рассмотрят люди других профессий. Спасибо.
Примечания
- 1. Публикуется по стенограмме выступления. Название дано составителем. – Прим. Сост.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.