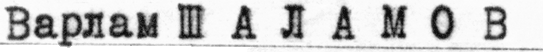
В.Т. Шаламов и А.К. Воронский
В статье анализируются публикации В.Т. Шаламова о журнале «Красная новь», А.К. Воронском и литературе 1920-х гг. Выявлен источник сокращенных в журнальной публикации фрагментов первоначального текста очерка Шаламова о журнале «Красная новь». Установлен ряд ценных наблюдений Шаламова о личности и деятельности Воронского, а также ряд его ошибочных суждений о литературно-критических статьях Воронского в очерке писателя «А.К. Воронский». Выясняются мотивы интереса Шаламова к книге «За живой и мертвой водой». Раскрываются причины обращения Шаламова к творчеству Воронского и внимания к работе комиссии по литературному наследию критика. Рассматривается история отношений и переписка Шаламова с дочерью Воронского Галиной Александровной и ее мужем И.С. Исаевым. Впервые на материале литературного наследия Г.А. Воронской рассматривается ее трагическая лагерная судьба. В статье используются архивные материалы из фонда В.Т. Шаламова в РГАЛИ, а также неопубликованные материалы из архива Г.А. Воронской.
В.Т. Шаламов стал первым автором, которому удалось опубликовать статью о журнале «Красная новь» вскоре после утвержденной в феврале 1957 г. реабилитации А.К. Воронского[1].
Шаламов отправил прокурору Р.А. Руденко в Генеральную прокуратуру запрос о реабилитации 18 мая 1955 г. Решение о реабилитации Шаламова было принято 18 июля 1956 г., а справку он получил 3 сентября 1956 г.[2].
Решимость Шаламова напомнить о вычеркнутом из жизни и литературы Воронском объяснялась тем, что автор «Колымских рассказов» был младшим современником Воронского, свидетелем и участником литературной жизни Москвы 1920-х гг.[3], хорошо помнил одного из ведущих организаторов советской литературы — главного редактора журнала «Красная новь», талантливого критика и прозаика.
Вместе с тем, большое влияние на автора колымских рассказов оказало знакомство с дочерью Воронского Галиной Александровной. Они встретились в поселке Дебин в 1949 г. в лагерной больнице для заключенных «Левый берег», где Шаламов работал фельдшером после окончания фельдшерских курсов. Именно тогда и возник у Шаламова замысел очерка «Первый номер “Красной нови”».
После отъезда с Колымы Шаламов переписывался с Г.А. Воронской. В письме от 18 октября 1957 г. Шаламов сообщил Г.А. Воронской, что закончил очерк «Первый номер “Красной нови”» и отдал в редакцию журнала «Москва». «Шаламов в это время работал внештатным корреспондентом журнала “Москва”, в 1957 г. вышло семь материалов под его именем. Он решился использовать свои связи для первой публикации о репрессированном большевике. Его очерк — первый материал в периодике после реабилитации имени А.К. Воронского...», — писала А.П. Гаврилова, обнаружившая в фонде Шаламова[4] записи об очерке в рабочей тетради автора[5], черновой автограф очерка[6] и его машинописи с авторской правкой[7]. На стадии верстки очерк о Воронском был отклонен редакцией. Шаламов планировал опубликовать вместе с очерком письма А.М. Горького к А.К. Воронскому, но они были отвергнуты журналом:
Дорогая Галина Александровна!
...Новостей хороших Вам сообщить не могу — Дементьев[8] (с которым говорил Кондратович[9]) высказался против публикации этих Горьковских писем — с аргументацией, напоминающей худшие времена. Моя заметочка (хотя уже была в верстке) снята с номера (в числе многих других); быть может, удастся ее определить в 12-й номер.
Я не теряю надежды…[10].
В письме от 28 мая 1958 г. Шаламов сообщил Галине Александровне и ее мужу Ивану Степановичу:
Исследователь А.П. Гаврилова сравнила первоначальный авторский вариант очерка Шаламова и текст его журнальной публикации[12] и пришла к выводу, что он был подвергнут «значительной правке»[13].После ряда самых энергичных моих демаршей статья-заметка о «Красной Нови» была напечатана (в майском No 5 «Москвы»), и если это хоть в какой-то мере — не то, что поможет, а просто подбодрит Галину Александровну — я буду очень рад.
...Я длительное время был в больнице (более 3-х месяцев) — но сейчас вышел, получив инвалидность. Работать пока не могу вовсе, что будет дальше — не знаю. Вовсе не знаю, как ваши дела с комиссией по литературному наследству. Напишите.
Заметка («Красная Новь») здорово сокращена и почищена, но и в этом виде едва нашла себе место в журнале[11].
В журнальной публикации были сделаны цензурные сокращения, а также редактор вписал несколько фрагментов. По наблюдениям исследователя, из первоначального варианта была вычеркнута часть упоминаний фамилии Воронского: из двенадцати упоминаний осталось четыре[14]. Сопоставление авторского текста очерка и его опубликованного варианта позволило заметить, что были сокращены упоминания имен В.И. Ленина, Н.К. Крупской, известных большевистских вождей, классика советской литературы А.М. Горького. А.П. Гаврилова заметила:
Редакторы фактически переделали очерк о репрессированном революционере в очерк о первом советском литературно-художественном журнале…
Сам текст сокращен в 1,7 раза. Стилистическая правка также его обеднила, превратив в небольшую заметку об истории журнала, с минимумом лиц и живых зарисовок[15].
Из очерка было вычеркнуто упоминание про Кронштадтский мятеж[16].
В сокращенном описании первого организационного собрания журнала в Кремле в квартире В.И. Ленина Шаламов цитировал речь Воронского на вечере, посвященном пятилетнему юбилею «Красной нови»[17].
Шаламов решил напомнить о сотрудничестве Воронского с Лениным и Горьким: «У колыбели “Красной нови” стояли те самые два человека, роль которых безмерна в истории советской литературы — Ленин и Горький».
Он использовал в очерке воспоминания Вс. Иванова[18] о Горьком. Но из процитированного фрагмента воспоминаний был вычеркнут воспроизведенный автором разговор А.М. Горького с Вс. Ивановым в Петрограде в апреле 1921 г.:
— Вы Владимира Ильича видели?
— Нет.
— Непременно вам нужно встретиться…
Он (Горький) очень живо передал, как смеялся Владимир Ильич рассказу об извозчике... а после этого опять построжал:
— Ну-с, а затем, дорогой, рассказ пошел о Вас.
— Обо мне?
Видимо, на моем лице было такое смущение, что Горький подсел ближе и даже положил руку ко мне на колено:
— Не прямо о Вас, Иванов, а о вас всех…
К воспоминаниям Вс. Иванова Шаламов обратился, чтобы показать, что в создании журнала «Красная новь» участвовал Горький, убедивший Ленина в необходимости такого издания.
Воронский трактовал историю создания журнала иначе: «Я перебрался из Иванова, где редактировал “Рабочий край”, в Москву и принялся за организацию ежемесячного журнала. Дело было нелегкое. И в Государственном издательстве, и в кругах многих ответственных товарищей находили, что ввиду отсутствия бумаги, ввиду типографских неурядиц нельзя рассчитывать пока на периодический выход журнала»[19]. Из приведенных Шаламовым мемуаров Вс. Иванова было вычеркнуто признание в том, что мемуарист не верил в возможность издания литературного журнала в условиях разрухи 1921 г.
Из статьи Шаламова был удален его комментарий о том, насколько велика была роль журнала «Красная новь» в литературной биографии Вс. Иванова.
Были вычеркнуты из статьи Шаламова воспоминания Воронского о «примечательном разговоре Ленина с Горьким» во время первого заседания редколлегии «Красной нови». Шаламов цитировал тот фрагмент речи Воронского на юбилейном вечере «Красной нови» в феврале 1927 г., где говорилось о разногласиях Горького и Ленина по вопросу издания книг: «Мне показалось тогда, что столкнулись две правды; один как бы говорил: “Не о хлебе едином будет жив человек”; другой отвечал: “А если нет хлеба...” И мне всегда казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды»[20].
В журнальной публикации очерка Шаламова были сокращены признания Воронского, в каких случаях Ленин критиковал редактора журнала, а также свидетельство Воронского о том, как ему помогала поддержка Ленина: при всех затруднениях он «недвусмысленно давал понять, что “Красной новью” очень интересуется Владимир Ильич…»[21].
В опубликованном тексте очерка Шаламова удалили абзац об отъезде Горького за границу. Редакторы очерка Шаламова сократили также список тех, кто помогал Воронскому издавать журнал, — фамилии Н.К. Крупской, Н.Л. Мещерякова, И.И. Скворцова[22], О.Ю. Шмидта.
Из публикации убрали упоминания о голоде 1921 г., размере гонорара и продовольственных пайках для авторов журнала. Шаламов не использовал тот вариант эпизода из речи Воронского на юбилейном вечере «Красной нови», в котором упоминались фамилии Енукидзе и Залуцкого[23], а включил текст, где действовал названный Воронским в другом варианте текста образ «кладовщика-латыша»[24].
В очерке Шаламова был сокращен рассказ Воронского о взятках наборщикам, которые приходилось давать редактору «Красной нови». В очерке «Александр Константинович Воронский»[25] Шаламов писал, что в студенческие годы был лично знаком с Воронским, поскольку они вместе состояли в левой оппозиции. В этом очерке Шаламов дал характеристику Воронскому: «Личные качества Воронского — бессребреник, принципиальный, скромный в высшей степени — иллюстрированы по рассказам Крупской, Ленина. Воронский стал близким личным другом Ленина, бывавшим в Горках в те последние месяцы 1923 года, когда Ленин уже лишился речи. Крупской написано о тех, кто посещал Ленина в Горках в то время: Воронский, Евгений Преображенский, Крестинский…»[26].
В мемуарах «Двадцатые годы» Шаламов писал о масштабах литературной деятельности Воронского:
Александр Константинович Воронский как редактор двух журналов — «Красной нови» и «Прожектора», как руководитель крупного издательства («Круг») и вождь литературной группировки «Перевал» отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. Стихов всегда писалось много, и самотек двадцатых годов представлял такое же бурное море, как и сейчас[27].
Шаламов вспоминал, как проходили собрания в редакции журнала «Красная новь»:
Издательство «Круг» и редакция «Красная новь» были в Кривоколенном переулке.
Я пришел на одно из редакционных собраний.
Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа “десятилинейка”, освещая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне — огромная тень головы передвигалась по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.
Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем, как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый[28].
В очерке «Александр Константинович Воронский» Шаламов прежде всего отметил, какую роль сыграл Воронский в литературной биографии Сергея Есенина:
Есенинский талант признавал, но не хотел видеть, что успехи Есенина вроде поэм о 26, о 36 и даже «Анна Снегина» — все это вне большой литературы, что «Москва кабацкая», «Инония», «Сорокоуст» не будут превзойдены.
Столкновение с этой поэтикой привело Есенина к смерти.
И «Русь советская», «Персидские мотивы» и «Анна Снегина» значительно ниже по своему художественному уровню, чем «Сорокоуст», «Инония», Пугачев или вершина творчества Есенина «Москва кабацкая», где каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики…[29].
В характеристике отношения Воронского к произведениям Есенина, написанным с учетом требований марксистской критики, Шаламов исходил из того, как критик марксист должен был положительно оценивать стихотворения и поэмы, соответствующие официальной идеологии. Но Воронский воспринимал творчество Есенина совершенно иначе. По поводу «поэм о 26, о 36» Воронский спорил с рапповским критиком И. Вардиным, который добивался от поэта создания произведений в духе марксисткой идеологии. Воронский же был убежден, что только те стихотворения Есенина, которые написаны искренне, могут достигнуть высокого художественного уровня. Поэтому «поэм о 26, о 36» Воронский не принял и не одобрил[30].
Шаламов присутствовал на партийной «чистке» Воронского, проходившей в Государственном издательстве художественной литературы 21 октября 1933 г.[31]:
В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили:
«Почему вы, видный литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?» Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста[32].
Шаламов воспринимал Воронского как профессионального революционера, старого большевика, настоящего марксиста и близкого соратника Ленина.
Поздравляя Г.А. Воронскую с Новым годом, Шаламов 29 декабря 1972 г. сообщал радостную новость: «Во все справочники включена последняя беседа Ленина с А.К. Воронским и Крестинским[33]. Это последние визитеры в жизни Ленина 16 декабря 1923 года, за месяц до смерти»[34]. Г.А. Воронская думала, что причиной внимания к ней Шаламова было его преклонение перед памятью ее отца. Но несомненно Шаламов испытывал сострадание к лагерной судьбе Галины.
Лагерная судьба Галины Воронской
После ареста Воронского его жену и дочь выселили из Дома правительства, они переехали в коммунальную квартиру на 2-й Извозной улице за Киевским вокзалом. Здесь 14 марта 1937 года арестовали и Галину:
Когда раздался звонок, я сказала...: «Это за мной!»
Вошел мой будущий следователь Смирнов…[35]
Галина не ожидала ареста, наивно считая, что детей репрессированных не сажают, хотя за несколько месяцев до ареста ее исключили из комсомола. Ей врезалось в память комсомольское собрание студентов литературного института. Об этом собрании она рассказала незадолго до смерти, отвечая на вопросы магаданского журналиста и писателя А.М. Бирюкова:
...нельзя не вспомнить, как меня исключали на комсомольском собрании в сентябре 1936 года. Конечно, это было связано с шумихой вокруг А.К. На комсомольском собрании — секретарем был тогда Ротин, с именем боюсь ошибиться: кажется, Исаак, все звали его по фамилии... Мне предложили порвать с А.К., уйти из дома и даже обещали, если я это выполню, найти комнату и работу.
Обвиняли меня также в обмане при вступлении в комсомол, выразившемся в том, что я утаила сведения о принадлежности А.К. к оппозиции. А я ничего не утаивала. Я сказала секретарю Фрунзенского РК комсомола о положении моего отца, он спросил: «Воронский сейчас в партии восстановлен? Работает? Ну так какие претензии могут быть к его дочери?»
Но на комсомольском собрании я не могла рассказать об этом разговоре — вспомнила фамилию! — с Хрусталевым, т. к. это грозило бы ему очень большими неприятностями[36].
Ее матери удалось узнать через Красный крест, где работала Е.П. Пешкова, откуда будет отправляться из Москвы партия заключенных с ее дочерью. Г.А. Воронская была единственной из заключенных, кого пришли провожать. Тогда она в последний раз видела мать.
Проделав долгий путь до Владивостока, Г.А. Воронская дальше добиралась на Колыму на пароходе «Кулу», который был приобретен Э.П. Берзиным в Амстердаме для «Дальстроя»[37]. На том же пароходе попал в Магадан и Шаламов.
Первый начальник «Дальстроя» Э.П. Берзин[38] появляется на страницах книг всех авторов колымской лагерной прозы[39]. Современники считали его гуманным либералом: «...осознание истребительной роли Колымы пришло не сразу»[40]. Десятилетия спустя А.М. Бирюков по документам из архивного подразделения УФСБ по Магаданской области установил, что «первые расстрельные залпы прозвучат уже в самые первые годы освоения Колымы»[41].
Шаламов задумал очерк о Берзине, но успел сделать «Схему очерка-романа»[42]. Шаламова глубоко возмущала созданная Берзиным лагерная система, при которой питание заключенных зависело от выработки[43]. Писатель не верил в «перековку» уголовников, в перевоспитание преступников насильственным лагерным трудом. Еще во время первого лагерного срока в 1929 г. Шаламов убедился, что «проводился великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну и обернувшийся кровью тридцать седьмого года»[44].
Работу «Дальстроя» Берзин организовал по тому же принципу: «На Колыме надо сделать так, чтобы при любом сроке каждый осужденный мог выйти на свободу через несколько месяцев, да еще с большими деньгами»[45]. Но однажды на Колыму прислали большую группу «троцкистов» со спецуказанием использовать их на тяжелой физической работе: «Берзин и Филиппов написали докладную записку: что этот “контингент” не годится в условиях Крайнего Севера…»[46]
Шаламов считал, что докладная записка Сталину, в которой Берзин и Филиппов позволили себе выразить недовольство кадровым составом заключенных, стала одной из причин их ареста.
Прибыв в Магадан, Г.А. Воронская прожила там месяц, в это время вместе с другими заключенными женщинами обслуживала слет заключенных-ударниц (из бытовичек). Из Магадана попала в женский лагерь «Эльген». Три зимы по пять месяцев работала на лесоповале:
Это было в 38–39 гг. Меня вместе с другими женщинами послали зимой на лесозаготовки на 12-й километр. Так называлась эта командировка, находившаяся в ведении лагеря Эльген. Зимы на Колыме чрезвычайно суровы, они рано начинаются, продолжительны, холодны. Минус 50–55 градусов — обычная зимняя температура. Лесозаготовка считалась тяжелой работой для женщин, туда обычно посылали осужденных по 58-й статье (контрреволюция) или провинившихся бытовиков. Нормы были рассчитаны на десятичасовой рабочий день, женщинам скидок не полагалось... Норма “на пилу”, то есть на двоих, была 8,4 кубометра. Надо было спилить деревья, распилить их на “трехметровки” и уложить в штабель. При этом еще пеньки должны быть низкие.
12-й километр находился на берегу реки Таскан, притоке Колымы. Течение реки местами было так быстро, что она не замерзала. Было что-то мрачное и жуткое: блестящий, искрящийся на солнце снег, белые мраморные сопки, и в узкой долине извивается черная дымящаяся река. Жили мы в бараке, срубленном на скорую руку, плохо законопаченном мерзлым мхом, с плоской крышей. Пол был застелен “кругляшами” — тонкими лиственницами, в середине барака стояли две железные печки-бочки, как только их переставали топить, воцарялся адский холод. Впрочем, углы барака всегда были промерзшими, в них скапливался толстый слой снега и льда. Слепое маленькое замороженное оконце. Деревья, окружавшие барак, были толстые, сырые.
Жилось мне в те дни очень неважно. Бригада подобралась сильная, почти все перевыполняли норму, а я, при моем маленьком росте и неподготовленности к тяжелому физическому труду, норму никак не могла выполнить. Под стать мне была и моя напарница, хотя и высокого роста, но очень истощенная и болезненная[47].
В невыносимых лагерных условиях спасением для Галины стало чтение, уносившее от ужасной реальности в другой мир:
Возращение к действительности бывало ужасным, но, мне кажется, я бы не выжила в лагере, если бы не было у меня этих часов отдыха. Я читала <...> вечерами, при свете чадящих коптилок.
<...> С морозного темного утра, когда в небе светили еще ледяные звезды, до еще более холодного и более темного вечера я жила ощущением минуты, когда я раскрою журнал и при слабом красноватом свете коптилки начну читать…[48]
Г.А. Воронская в беседе в А.М. Бирюковым рассказала, что в лагере «Эльген» на лесоповале ей довелось увидеть знаменитого Гаранина[49]:
«Гаранин, тот самый начальник СВИТЛ (он приезжал в это время на “Эльген”, говорят, узнав, что женщин послали на такую тяжелую работу, сделал удивленное лицо. На вид он, вопреки общему теперь представлению, не был каким-то страшилищем»[50].
Галину спасло от голода то, что она овладела полезным ремеслом. В беседе с А.М. Бирюковым она вспомнила женщину, которую считала своей спасительницей:
Я думаю, что освободилась благодаря моей напарнице Фаине Шуцкевер (осужденной жене крупного военачальника). Фаина, несмотря на свой возраст (она была много старше меня), регулярно показывала очень высокую производительность труда в деле, которому она обучила и меня — мы плели корзины. Она гнала выработку на 141 процент, которая давала ей и мне возможность ежедневно получать по одному килограмму хлеба, так как сильно страдала от недоедания. У меня аппетит был скромнее, я бы удовольствовалась и 650 граммами, и, соответственно выработкой в 131 процент. Но Фаина была непреклонной.
Фаина умерла, может быть, потому, что не выдержала этой гонки, мне же она принесла освобождение[51].
Г.А. Воронская рассказала А.М. Бирюкову, как получила весть об освобождении. Летом в лагере «Эльген» она была на сельхозработах:
Я работала в теплице, поливала помидоры, сентябрьский дневной теплый воздух вливался в открытые люки, вдали стояли сопки со снежными вершинами. В этот день пришел список на двадцать человек и на разводе говорили о нем, и сейчас в этот список запихали весь лагерь, называли много фамилий, потому что в лагере к тому времени было много «пересидчиков», и всем очень хотелось освободиться. Мою фамилию не называли.
В полдень ко мне в теплицу вбежала запыхавшаяся красивая татарка Зейнаб и сказала мне, что я в списке освобожденных. Она была на обеде в лагере и все выяснила.
Долгожданная свобода, предчувствие новой жизни обрушились на меня. И одновременно острая мысль, перешедшая в уверенность, пронзила меня: несмотря на свободу, я никогда больше не увижу ни отца, ни матери[52].
Письма матери Галина получила только в 1943 г., до того времени материнских писем ей не передавали.
На Колыме освобождение в срок было необыкновенной удачей: «Мой срок заканчивался 14 марта 1942 года, но освободили меня лишь 14 сентября 1944 года, то есть пересидка была более двух лет. Однако то, что меня освободили в 44-м, было огромной удачей, так как в то время задерживали до конца войны, и лишь очень немногим удавалось попадать в те списки (по 30–35 человек, их зачитывали на поверках), в которых значились фамилии счастливцев»[53].
В Литинституте Г.А. Воронская познакомилась с Иваном Исаевым. И.С. Исаев был арестован 25 июня 1936 г. в период замены партийных документов, специально устроенной для «чистки» рядов членов партии. Полтора года он провел в 78-й камере Бутырской тюрьмы, был осужден особым совещанием. После окончания следствия его приговорили к пяти годам заключения в трудовые исправительные лагеря. Исаев узнал, что Галина на Колыме, нашел ее в лагере, дождался ее освобождения. Через месяц после освобождения Галина Воронская вышла за него замуж. Она оставила фамилию отца, т. к. надеялась, что кто-то из близких станет ее искать. После освобождения они жили в поселках Ягодное, Усть-Утиная, Дебин.
В 1949 г. Галину Воронскую арестовали повторно. Месяц она провела в изоляторе в Ягодном, где ожидала любого приговора, включая высшую меру наказания. Ее приговорили к вечной ссылке и отпустили. В 1953 г. семья Исаевых, где росли две дочери Валентина и Татьяна, перебралась из поселка Дебин в Магадан.
Шаламов в переписке с Галиной Воронской постоянно обращался к творчеству Воронского. 16 сентября 1964 г. Шаламов писал Г.А. Воронской, что рад публикации фрагментов из книги Воронского о Гоголе в журнале «Новый мир»: «Я тоже не знал этой работы Александра Константиновича и получил огромное удовольствие от прочтения того немногого, что напечатано. Ваша исключительная заслуга в публикации этой работы [54].
Шаламов писал 15 сентября 1972 г., что сделал дарственную надпись на своей новой книге «Московские облака» «в подражание другой надписи» [той, которую Воронский сделал на книге «За живой и мертвой водой». — Н.М.]: «Колымчанке Галине, дочери Валентина. Москва, сентябрь 1972 г. В. Шаламов»[55].
О дарственной надписи, сделанной автором на книге «За живой и мертвой водой», Шаламов напомнил Г.А. Воронской 16 августа 1976 г., когда благодарил за присланную ему книгу А.К. Воронского: «Хорошо, что сохранилось главное посвящение: “Галине, дочери Валентина”»[56], — писал он, Шаламов знал, что Воронский посвятил книгу своей дочери Галине, а Валентин — партийная кличка Воронского и имя героя его книги.
Шаламов заметил, что при издании книги пропущен эпиграф к третьей части, т. е. он детально знал это произведение. Он помнил публикацию «За живой и мертвой водой» в журнале «Новый мир» в конце 1920-х гг., когда журналы с этим произведением «передавали из рук в руки во всех студенческих общежитиях Москвы, да и не только в студенческих: «С удовольствием перечитываю каждую строчку “За живой и мертвой водой” — ведь это наша юношеская классика, где мы учили каждый абзац, каждый сюжетный поворот, каждый образ, учились воспитывать в себе единство слова и дела»[57]. Он признался, что мечтал выпустить «...свою “За живой и мертвой водой”…»[58].
В том же письме Воронской от 16 августа 1976 г. Шаламов высоко оценил книгу Воронского «Желябов»[59], считая ее удачной «в изображении героев народовольческой эпохи». Он рассматривал книгу в историческом контексте, обнаруживая серьезную увлеченность темой народовольческого движения и судьбами его участников: глубокие познания в теме, которую он унаследовал у Воронского.
В последние годы жизни Шаламова его друзьям было трудно поддерживать с ним контакты, т. к. он уже не мог сам отвечать на письма и телефонные звонки. Здоровье писателя было непоправимо разрушено. Никого из родственников и близких не было с ним рядом. В этот период Иван Степанович Исаев не только продолжал навещать Шаламова, но и сыграл в его судьбе важную роль, был тем человеком, которому Шаламов доверял.
29 марта 1982 г. И.С. Исаев написал своему другу А.С. Яроцкому о похоронах Шаламова:
Варлама Тихоновича хоронили по христианскому обычаю. Отпевали в церкви. Есть такая в Замоскворечье в Вишняковом переулке (недавно мимо нее проходил). В церкви после отпевания читали его стихи, много фотографировали. Затем состоялось захоронение на Кунцевском кладбище. Это своего рода филиал Новодевичьего. У могилы тоже читали стихи. Народу было порядочно. Два полных автобуса... Очень жалею, что сердечный приступ не позволил мне быть на похоронах. Я бы, наверное, был бы там единственным, кто знал покойного в рубищах и голодного. Вспомнил, как вы с Марией Павловной долгое время откармливали его после освобождения. Он потом рассказывал мне, как за многие годы почувствовал себя в семье человеком. Почему его хоронили по церковному обряду, сказать не могу. Вообще человек он был неверующий, хотя и сын священника…[60].
Сам Иван Степанович не смог пойти на похороны из-за сердечного приступа. Среди тех, кто провожал Шаламова в последний путь, была дочь А.К. Воронского. С ее слов И.С. Исаев рассказал другу об этом событии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гаврилова А.П. «...Сыграл огромную роль в истории советской литературы»: Очерк Варлама Шаламова о журнале «Красная новь» из личного фонда писателя в РГАЛИ // Отечественные архивы. 2013. No 6. С. 84–90.
2. Динерштейн Е.А. А.К. Воронский: В поисках живой воды. М.: РОССПЭН, 2001. 357 с.
3. Есипов В.В. Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012. 346 с.
4. Малыгина Н.М. Воспоминания А.С. Яроцкого о Колыме в литературном контексте // Яроцкий А.С. Золотая Колыма. СПб.: Нестор-История, 2021. С. 3–94.
5. Малыгина Н.М. Роль А.К. Воронского в литературной биографии С.А. Есенина // Сергей Есенин в контексте эпохи. Коллективная монография / Ин-т мировой лит. РАН / отв. ред. Н.И. Шубникова-Гусева, ред.: Т.К. Савченко, М.В. Скороходов, С.И. Субботин. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 384–404.
6. Нурмина Галина. На дальнем прииске. Магадан // Бирюков А.М. Жизнь на краю судьбы. Из бесед с Г.А. Воронской. 1992.
Примечания
- 1. Шаламов В.Т. Первый номер «Красной нови» // Москва. 1958. No 5. С. 217–218. Опубл. в сокращ.
- 2. Хроника решения вопроса о реабилитации Шаламова представлена в кн.: Есипов В.В. Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 216–217.
- 3. Шаламов В.Т. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ // Юность. 1987. No 12. С. 30.
- 4. Воронский упоминается в документах фонда В.Т. Шаламова: в очерке «Двадцатые годы», статьях «Заметки о стихах» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 171; Оп. 3. Д. 127), «Русские поэты XX века и десталинизация» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 171), «Маяковский мой и всеобщий» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 160), «Есенин» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 184), воспоминания «Москва 20-х годов» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 77).
- 5. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 25. Л. 9.
- 6. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 121. Л. 37–57.
- 7. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 122. Л. 1–9.
- 8. А.Г. Дементьев (1904–1986) — литературовед, член редколлегии журнала «Новый мир», председатель комиссии по литературному наследию А.К. Воронского.
- 9. А.И. Кондратович — член редколлегии журнала «Новый мир».
- 10. Переписка опубликована на сайте В.Т. Шаламова (дата обращения: 25.11.2021). Для настоящего издания письма сверены с автографами из личного архива Т.И. Исаевой.
- 11. Исаева Т.И. «Я не теряю надежды» // Исторический архив. 2000. No 1. С. 133.
- 12. Шаламов В.Т. Первый номер «Красной нови» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 122. Л. 1–9); Гаврилова А.П. «...Сыграл огромную роль в истории советской литературы»: Очерк Варлама Шаламова о журнале «Красная новь» из личного фонда писателя в РГАЛИ. 1957–1958 гг. // Отечественные архивы. 2013. No 6. С. 84–90; No 6. С. 91–97. Интернет-версия статьи (дата обращения: 25.11.2021). Авторский текст опубликован впервые: Отечественные архивы. 2013. No 6. С. 91–97.
- 13. Гаврилова А.П.«...Сыграл огромную роль в истории советской литературы». С. 84.
- 14. Там же. С. 85.
- 15. Гаврилова А.П. «...Сыграл огромную роль в истории советской литературы». С. 84–90.
- 16. «Кронштадтский мятеж — вооруженное выступление гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота 1–18 марта 1921, направленное против политики советской власти; проявление политического кризиса весны 1921 г. В нем отразилось недовольство политикой “военного коммунизма” (продразверстка, комбеды, заградительные отряды и т. п.), усилившееся в конце 1920 – начале 1921 г. в связи с неурожаем, хозяйственной разрухой, голодом» (Гаврилова А.П. Примечания // Отечественные архивы. 2013. No 6. С. 97).
- 17. Воронский А.К. Из прошлого (стенограмма речи, произнесенной на юбилейном вечере «Красной нови» // Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. Сб. ст. и фельетонов. М.: Антиква, 2005. С. 211.
- 18. Иванов Вс.В. Начало // Красная новь. 1941. No 6.
- 19. Воронский А.К. Встречи и беседы с Максимом Горьким // Воронский А.К. Избранные статьи о литературе. М.: Худож. лит., 1982. С. 52–53.
- 20. Воронский А.К. Из прошлого (стенограмма речи, произнесенной на юбилейном вечере «Красной нови»). С. 209–210.
- 21. Там же. С. 211.
- 22. Иван Иванович Скворцов-Степанов (1870–1928) — член РСДРП с 1896 г., член ЦК ВКП(б), публицист, с 1925 г. — редактор газеты «Известия» и член редколлегии журнала «Новый мир», историк, переводчик «Капитала».
- 23. Залуцкий П.А. — секретарь Ленинградского губкома партии.
- 24. Воронский А.К. Из прошлого (стенограмма речи, произнесенной на юбилейном вечере «Красной нови»). С. 212–213.
- 25. Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4 / сост., подгот. текста, прим. И. Сиротинской. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2005. С. 577–587; РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 129.
- 26. Шаламов В.Т. Александр Константинович Воронский // Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. С. 583–584.
- 27. Шаламов В.Т. Двадцатые годы // Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. С. 354. 607
- 28. Там же. С. 355.
- 29. Шаламов В.Т. Александр Константинович Воронский. С. 577.
- 30. Об этом подробнее в ст.: Малыгина Н.М. Роль А.К. Воронского в литературной биографии С.А. Есенина // Сергей Есенин в контексте эпохи. Научная монография / Ин-т мировой лит. РАН / отв. ред. Н.И. Шубникова-Гусева, ред. Т.К. Савченко, М.В. Скороходов, С.И. Субботин. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 384–404.
- 31. Динерштейн Е.А. А.К. Воронский: В поисках живой воды. М.: РОССПЭН. 2001. С. 297.
- 32. Шаламов В.Т. Двадцатые годы. С. 356; Тот же эпизод в другой редакции вошел в очерк о Воронском: Шаламов В.Т. Александр Константинович Воронский. С. 581.
- 33. Николай Николаевич Крестинский (1883–1938) — член партии большевиков с 1903 г. В 1917–1921 гг. — член ЦК партии. С декабря 1917 г. — член Коллегии Наркомата финансов РСФСР, зам главного комиссара Народного банка. С августа 1918 по октябрь 1922 г. — нарком финансов РСФСР. В ноябре 1919 – марте 1921 г. — секретарь ЦК, в марте 1919 – марте 1920 г. — член Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б). С октября 1921 г. — полпред в Германии, член делегации на Генуэзской конференции. В 1927–1929 гг. — участник «новой оппозиции». С 1930 г. — замнаркома иностранных дел СССР. В марте 1937 г. — замнаркома юстиции СССР. В мае 1937 г. арестован. Был обвиняемым на фальсифицированном открытом процессе «Антисоветского правотроцкистского блока». В марте 1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в ВМН. Расстрелян. Реабилитирован.
- 34. «Я не теряю надежды». Письма В.Т. Шаламова Г.А. Воронской и И.С. Исаеву // «Я не сплю в московской тишине. Через час подъем на Колыме». М.: РуПаб+, 2013. С. 48.
- 35. Бирюков А.М. Жизнь на краю судьбы. Из бесед с Г.А. Воронской // Нурмина Галина. На дальнем прииске. Магадан, 1992. С. 20.
- 36. Там же.С.20.
- 37. Бирюков А.М. Жизнь на краю судьбы. С.20.
- 38. Берзин Эдуард Петрович (1893–1938) — директор треста «Дальстрой» НКВД СССР. С 1921 г. служил в спецотделе ВЧК — ОГПУ. В 1927 г. внес предложение в ВСНХ СССР о строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината на Урале. В 1929 г. выезжал в Германию и США для закупки оборудования. Вишерский комбинат был построен за 18 месяцев. 14 ноября 1931 г. назначен директором «Дальстроя». В бухту Нагаева, в Магадан прибыл на пароходе «Сахалин» 4 февраля 1932 г. Награжден нагрудным знаком Почетного работника ВЧК — ОГПУ (1932 г.), за выполнение плана по добыче золота 22 марта 1935 г. постановлением ЦИК СССР награжден орденом Ленина. В мае 1935 г. выезжал в Амстердан для покупки судна «Кулу» для морского флота «Дальстроя».
В декабре 1937 г. выехал в отпуск, спустя полмесяца, 19 декабря 1937 г., был арестован недалеко от Москвы на станции Александров. 1 августа 1938 г. приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР. Реабилитирован 4 июля 1956 г.
- 39. Малыгина Н.М. Воспоминания А.С. Яроцкого о Колыме в литературном контексте // Яроцкий А.С. Золотая Колыма. СПб.: Нестор-История, 2021. С. 3–94.
- 40. Бирюков А.М. Колымскиеистории. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2004.С.30.
- 41. Там же.
- 42. Шаламов В.Т. Берзин (Схема очерка-романа) // Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2005. Т. 4 / сост. подгот. текста, прим. И. Сиротинской. С. 562.
- 43. Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 4 т. М.: Худож. лит.; Вагриус, 1998. Т. 2. С. 255.
- 44. Там же. С. 256.
- 45. Шаламов В.Т. Берзин (Схема очерка-романа). С. 562.
- 46. Там же
- 47. Воронская Г.А. Очерк о Пришвине // Воронская Г.А. В стране воспоминаний. М.: РуПаб+, 2002. С. 86.
- 48. Там же. С. 87.
- 49. Степан Николаевич Гаранин (1898–1950) — полковник, в 1937–1938 гг. — начальник Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря. 1 декабря 1937 г. Гаранин прибыл на Колыму и 19 декабря 1937 г. был назначен начальником Севвостлага. С именем Гаранина связывают массовые незаконные репрессии в лагерях «Дальстроя», получившие название «гаранинщина». По свидетельству Шаламова, Гаранин лично принимал участие в расстрелах заключенных. 17 января 1940 г. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило начальника Севвостлага за участие в контрреволюционной организации к заключению в исправительно-трудовой лагерь на 8 лет. Затем срок был продлен. Гаранин умер 3 июля 1950 г. в Печерском исправительно-трудовом лагере. Реабилитирован.
- 50. Бирюков А.М. Жизнь на краю судьбы. С.16–17.
- 51. Там же.С.17–18.
- 52. Там же.
- 53. Там же.С.17.
- 54. «Я не теряю надежды». С. 46.
- 55. Там же. С. 47.
- 56. Там же. С. 48.
- 57. Там же.
- 58. Там же. С. 47.
- 59. Воронский А.К. Желябов. М.: Журнально-газетное Объединение, 1934.
- 60. Переписка А.С. Яроцкого и И.С. Исаева // «Я не сплю в московской тишине. Через час подъем на Колыме». С. 52.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.