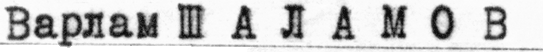
«И стиху откликается эхо» Шекспира: Шаламов и Шекспир. Часть 1
Шаламов и Шекспир – тема, до сих пор не привлекавшая внимание исследователей. Статья посвящена отношению Шаламова к Шекспиру: от очевидного интереса в школьные годы к возвращению к шекспировскому творчеству, как только появилась возможность в последние колымские годы. Особое внимание уделено экспериментам Шаламова с формой сонета, аллюзиям к героям шекспировских трагедий в его поэзии.
«Весь Шекспир» в юности
Шаламов не только успел прочитать Шекспира до того, как был арестован 19 февраля 1929 г., но, как мы знаем из письма Борису Лесняку от 5 августа 1964 г., он «в юности собирался стать Шекспиром» [4, с. 169]. О своем приобщении к театру и его значении в юности Шаламов рассказал в автобиографической повести «Четвертая Вологда». Он характеризует Вологду как «передовой актерский город» [11, c. 17]. Говоря о том, что «в Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни», в сфере театра он называет Мамонта Дальского, Павла Орленева, Николая Россова: «Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами – гастролирующими пророками столичной и провинциальной сцены» (Там же).
Шекспир среди драматургов не упомянут. Варлам Тихонович отмечает, что для его первого посещения театра Тихон Николаевич выбрал пьесу сам: «Эрнани» Виктора Гюго [11, c. 72]. Отец добился желаемого: «Впечатление было ошеломляющим» (Там же). Читая воспоминания, мы готовы поверить Шаламову на слово, что было это в 1918 г. и двадцатилетнего короля Карла играл «Россов, восьмидесятилетний старец» (Там же). Театровед Борис Ильин в статье «Театр в жизни юного В. Шаламова»[На основании анонсов в газете «Красный Север» он восстанавливает репертуар вологодского театра и затем, опираясь на документы РГАЛИ, уточняет и дополняет факты.] приводит датировку спектаклей, согласно которой Николай Россов (1864–1945) играл в Вологде только в зимнем сезоне 1920/21 и весной (март-апрель) 1921 г. [3, с. 531]. 13-летний на тот момент Шаламов вполне мог принять 56-летнего Россова за 80-летнего.
Второй спектакль, на который Шаламову куплен билет, – «Разбойники» Шиллера, где Россов играл Франца [11, c. 72]. Кроме этих двух пьес, в Вологде репертуар Россова (он принципиально не играл в современных пьесах – исключительно классику) был следующим: Уриэль Акоста в одноименной трагедии К. Гуцкова, Дон Карлос в одноименной трагедии Ф. Шиллера, король Лир в одноименной трагедии У. Шекспира, Трибуле в пьесе В. Гюго «Король забавляется» (в переводе Россова, как и «Эрнани») [3, с. 532].
Смотрел ли Шаламов «Короля Лира», мы не знаем. В «Четвертой Вологде» он не упоминает об этом, направляя повествование к создаваемому им образу отца: «Потом, после Гюго, Шиллера с Россовым, я смотрел все, что хотел – уже без отцовского контроля, ибо, указав верный, по его мнению, путь, он считал свою задачу выполненной – таков был один из его главных педагогических приемов, даже принципов» [11, c. 73].
Вряд ли Шаламов упустил шанс увидеть «Короля Лира». Так или иначе, трудно не согласиться с Б. Ильиным, что именно спектакли с участием Россова «зажгли у Шаламова горячую любовь к театральному искусству и привели его в школьный драмкружок, где он скоро стал главным “заводилой”» [3, с. 532].
Осенью 1921 г. (20 сентября – 2 октября), а затем зимой 1921/22 (до 21 марта 1922) в Вологду приезжает гастрольная труппа артистов бывшего Петроградского Малого театра под руководством Бориса Глаголина (1879–1948) [3, с. 541–543]. Шаламов впервые встречается с экспериментальным театром, и это не может не сказаться на формировании его вкусов. Ему важно познать жизнь сцены изнутри: «В Вологодском театре я даже жалованье получал как статист, один какой-то сезон в бумажных миллионах. Театр полюбил, но актером не стал» [11, c. 73]. Что касается Шекспира, у Шаламова он снова не упомянут, в отличие от пьесы Игнатия Потапенко «Ряса», на которую пришел отец, «как ни плохо он видел» [11, с. 73]. Если Шаламов был на литературно-вокально-музыкальном вечере-балу 19 февраля, то среди прочего он мог увидеть сцену из «Гамлета» [3, с. 543].
Итак, «Король Лир» и сцена из «Гамлета» – то из Шекспира, с чем Шаламов мог познакомиться в Вологде.
Параллельно Шаламов читал. В «Четвертой Вологде» он рассказывает о жажде чтения в последние школьные годы (зимы 1921/22 и 1922/23 – ему 14–16 лет) [11, с. 147]. Вместе с Сергеем Воропановым (1906–1972) они «переворотили все библиотеки Вологды» и не только читали, но и отыгрывали произведения в любимые Шаламовым фантики (Там же). Как свидетельствует Шаламов: «Читал или перечитывал все подряд – от “Божественной комедии” до капитана Марриэта – и давал всему свои оценки» (Там же). Среди упомянутого – публицистика Мережковского, «То, чего не было» Савинкова, Кун, и – прочтение «всего Шекспира, Достоевского, Толстого» (Там же).
Интерес к Шекспиру обусловлен, не исключено, именно театром и определенно не школой. Относительно школы мнение Шаламова однозначно: «Школа не привила мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делал открытия сам, продвигаясь зигзагами – от Хлебникова к Лермонтову, от Баратынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку» [11, с. 149]; «Школа не могла и не хотела дать больше того, что давала. Программы были сокращены, девятый класс отсечен, куцее наше образование в единой трудовой школе закончилось на восьмом классе. Программа гимназии была значительно урезана. К тому же Дальтон-план, бригадный метод и все модные эксперименты тех лет именно на провинциальной школе отразились очень жестоко» [11, с. 150].
Шаламов с благодарностью вспоминал преподавательницу литературы Екатерину Михайловну Куклину, вложившую много «беззаветного труда именно в это смутное время»: «Куклина пыталась привить какие-то важные основы в понимании предмета, познакомить с Бальмонтом, Блоком. Литературно-драматический кружок при ее шефстве существовал в школе ряд лет. Я пользовался расположением этой преподавательницы» [11, с. 151].
Если Шекспир прочитан весь, значит, он увлек Шаламова. Более того, Шекспир отыгран в фантики, а это означает своего рода драматизацию. Время возникновения игры (все в той же «Четвертой Вологде») Шаламов отнес к возрасту десяти лет. Образцы фантиков (конфетных оберток) на литературные темы, выпускавшихся петербургской фабрикой М. Конради, имеются в экспозиции Шаламовского музея в Вологде. Он не скрывал, что его «литературные пасьянсы» очень «тревожили семью» [11, c. 16]. Что стояло за раскладываемыми в полном молчании «пасьянсами»? По его свидетельству, это был личный способ торможения внешнего мира, фиксации (Там же). Именно такие моменты Шаламов соотнес с началом своего писания. Вначале у него были именно стихи: «Я начинал со стихов, с мычания ритмического <…> Тогда мне было непонятно, что поэзия – это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходят до высот Шекспира и Гете…» (Там же).
Говоря о высотах, он будет неизменно упоминать Шекспира. По-видимому, именно в ранней юности Шаламов смог ощутить его величие и проникнуться шекспировской театральностью как особым мироощущением. Со всей свежестью, восприимчивостью, отзывчивостью молодости он должен был прочувствовать театр как образ мира и мир как театр. В постколымском стихотворении 1957 г. Шаламов горько иронизировал по поводу «кромешного хаоса чувств и лиц»: только в шутку его бесконечное горе может называться миром.
Давно запуганный Шекспиром
Кромешный хаос чувств и лиц,
Что называют в шутку миром,
Где только горе без границ,
Заговори нас певчей пташкой,
До света научи вставать
И на груди своей рубашку
При каждой клятве разрывать.
Толкай нас поминутно взáшей,
Гони в ненастье от дверей
И не жалей домашней нашей
Судьбы прирученных зверей.
И бей об угол без пощады,
Как слепорожденных котят,
Что свету божьему не рады,
Прозренья вовсе не хотят.
[10, с. 7]
Возвращение к Шекспиру в зрелости. Влияние сонетного Шекспира
Шекспир всегда будет любимцем поколений исторически зрелых и много переживших.
В эссе «Слишком книжное» (1959) Шаламов рассказал о своих взаимоотношениях с книгами, об утрате за годы лишения свободы присущей ему изначально способности к скоростному чтению (охватывать глазами одновременно 15–17 строк книжной страницы). Когда он снова получил возможность читать, потребовалось преодоление себя, ибо навык чтения, как и многие другие, атрофировался: «Сейчас я глядел на строки – и ничего не понимал. Было еще светло, я стал шептать, выговаривать слово за словом, но никакого удовольствия от такого чтения не получил. Книга перестала быть моим другом. Я отвык от книги, и книга отвыкла от меня. Я был встревожен и усилием воли заставил себя читать и читать. Болела, шумела голова, но мне удалось принудить себя к чтению. Я стал разбираться в сюжете, в отношениях героев между собой. Поступки были непонятны. Какое-то пустое убийство, вызывающее столько волнений!» [6].
Когда Шаламов смог восстановиться и вернуться к чтению Шекспира? В последние годы работы в лагерной больнице в поселке Дебин в 500 километрах от Магадана, на левом берегу Колымы. Именно тогда появилась возможность пользоваться книгами из библиотеки поселка, где было около двух тысяч томов. Больница была под строгой охраной, и нужные книги Шаламову приносил его друг, поэт Валентин Португалов, в заключении работавший культоргом. Он был также участником тайных поэтических вечеров в лагерной больнице, описанных Шаламовым в рассказе «Афинские ночи» (1973). Рассказ начинается с размышления об «основных чувствах человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство», согласно Томасу Мору: это голод, половое чувство, мочеиспускание, дефекация [7, c. 540]. Поведав об их трансформациях в страшных колымских условиях, Шаламов выделяет еще одну принципиальную для него необходимость, не учтенную Мором: «потребность в стихах», «потребность слушать стихи» [7, с. 545]. Оказавшись после ада каторжных работ в более или менее человеческих условиях служения фельдшером в больнице, Шаламов осознает, что его товарищи (Португалов и Добровольский) помнят стихи наизусть: «Я напрягаю свой мозг, отдавший когда-то столько времени стихам, и, к собственному удивлению, вижу, как помимо моей воли в гортани появляются давно забытые мной слова. Я вспоминаю не свои стихи, а стихи любимых мной поэтов – Тютчева, Баратынского, Пушкина, Анненского – в моей гортани» [8, с. 546].
Память возвращалась, и взнос Шаламова в «Афинские ночи» был существенным: «Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой» [8, с. 547]. Читая о вкладе Добровольского, мы понимаем, что именно он донес до слушателей переводы Маршака. Возможно, на этих вечерах заходил и профессиональный разговор о форме сонета – на примере Петрарки и Шекспира. По-видимому, тогда Шаламов и написал это стихотворение:
Возлюбленных и жен оставив в странах жарких,
Мужчины бродят от скалы к скале.
По гребням гор проходит тень Петрарки,
Последнего поэта на Земле.
Ее встречает шутками и смехом
Лихое сборище холостяков,
Но как бы ни гремело эхо,
Ему не заглушить стихов.
И с голоса тоски, которой громче нету,
В тайге мы учим южные сонеты.
[10, с. 374–5]
Следующее стихотворение Шаламов считал сонетом [2, c. 574], но, учитывая, что в нем, как и в уже процитированном, десять строк (два катрена с перекрестной рифмовкой и заключительное двустишие), формально это не сонеты.
Я славу в юности искал на площадях.
Случайный взгляд красавиц разодетых
Встречал, и он, меня не пощадя,
Еще тогда определил в поэты.
И тридцать лет я письма им писал,
Просил любви иль просто состраданья.
И письма, наконец, дошли по адресам,
И я спешил на первое свиданье.
Я в дверь стучу – и сам себе не верю.
Старуха-нищенка мне открывает двери.
<1950?>
[10, c. 376]
Исходя из того, что стихотворение (в числе многих других – около ста пятидесяти – в самодельных тетрадях Дусканьи) было отправлено Пастернаку, а затем переписано по памяти в тетрадях якутского периода [2, c. 574], оно не могло быть поздним, как это могло бы показаться. Лексика переводов шекспировских сонетов Маршака взрывается смыслом шаламовской концовки – остаешься с этим страшным образом похищенного времени.
Эксперименты с формой сонета характерны для Шаламова именно для данного периода [1, c. 511]. В 1949–1950 г. он работает фельдшером в «лесной командировке» на ключе Дусканья: принимает посетителей в фельдшерском пункте в избушке, объезжает участки зимой на санях, летом на моторной лодке. В связи с посещением семьи раскулаченных и сосланных староверов мог быть написан сонет «Перевод с английского» (1950). Любопытно, что первоначально в первой строке звучала не слишком сонетная лексика: «Оборванец и вор», затем – «Оборванец босой», и далее – «В староверской избе», «В староверском дому» [1, c. 511]. Кроме традиционного шаламовского стремления к смысловой точности, по-видимому, мы имеем здесь дело с гармонизацией лексики самой сонетной формой.
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО[2, c. 574]
В староверском дому я читаю Шекспира,
Толкованье улыбок, угрозы судьбе.
И стиху откликается эхо Псалтыри
В почерневшей, продымленной темной избе.
Я читаю стихи нараспев, как молитвы.
Дочь хозяина слушает, молча крестясь
На английские страсти, что еще не забыты
И в избе беспоповца гостят.
Гонерилье осталась изба на Кубани,
Незамужняя дочь разожгла камелек.
Тут же сушат белье и готовится баня.
На дворе леденеют туши кабаньи…
Облака, как верблюды, качают горбами
Над спокойной, над датской землей.
[9, с. 164]
Привлекает внимание шаламовское заглавие: «Перевод с английского». Что это – традиционное использование эзопова языка? В колымской трагедии семьи раскулаченного кубанского старовера узнаны шекспировские страсти «Короля Лира», и они приглушены до нейтрально звучащего «перевода с английского»? Семья беспоповца разрушена без какой бы то ни было вины с их стороны, и все же их крепко организованная жизнь продолжается даже здесь на севере. Читая, мы чувствуем любовь Шаламова к этим людям, помимо раскольнической веры отличавшимся еще и беспримерной для Колымы хозяйственностью. С «Королем Лиром» в сонете – глубинная связь.
От «Гамлета» здесь соотнесение «спокойствия» датской и колымской земли с их очевидной тюремной общностью: согласно Гамлету, «Дания – тюрьма», и в ответ на предположение Розенкранца, что «тогда и мир – тоже», Гамлету остается только согласиться: «Одна большая тюрьма со множеством заслонов, надзирательских и темниц, среди которых Дания – из худших» («A goodly one, in which there are many confines, wards and dungeons; Denmark being one o’ th’ worst»; перевод И. Пешкова [12, с. 48]). Отмечу, что существовавшие тогда переводы пестрели промахами. Переводчики, как продемонстрировал И. Пешков, запутались в топографии тюрьмы [12, с. 47–48]. У А. Кронеберга в 1844 г. вызвали затруднения собственно реалии: «Превосходная. В ней много ям (???), коморок (???) и конурок (???)» [12, с. 47]. Начиная с Кронеберга, мы видим и логико-грамматическую неувязку, которую покажем на примере Б. Пастернака: «И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания – наихудшее» [12, с. 48] (получается, наихудшее подземелье, в то время как речь идет о тюрьме). Очевидно, что у Шаламова – не обусловленное переводами, а свое ощущение «датской земли»: он воспринимал и писал в соответствии с собственным жизненным опытом.
Гамлетовская аллюзия ощущается и в образе «облаков-верблюдов». Читая ее, сложно не вспомнить красноречивое испытание терпения друг друга Гамлета и Полония:
Гамлет Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний Ей богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять верблюд.
Гамлет По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний Правильно, спинка хорьковая.
Гамлет Или как у кита.
Полоний Совершенно как у кита.
(Перевод Б. Пастернака)
В финале Шаламова шекспировская ирония приглушена, звучание приближается к лиро-эпическому: «Облака, как верблюды, качают горбами / Над спокойной, над датской землей».
Эти финальные ассоциации – в сильной позиции: о них продолжаешь думать и тогда, когда стихотворение перестает звучать. Аллюзии третьего катрена скорее просто отмечаешь, чем успеваешь продумать. При упоминании Гонерильи понимаешь, что с отцом на Колыме пребывала, скорее всего, младшая дочь: «незамужняя дочь разожгла камелек».
Туши кабаньи («На дворе леденеют туши кабаньи») могут вызвать в памяти богатство многочисленных у Шекспира пиров. Процитируем, например, из «Антония и Клеопатры»:
Меценат Правда ли, что восемь жареных кабаньих туш подавалось к завтраку – на двенадцать всего-то персон?
(Перевод О. Сороки).
Без сомнения, Шаламов мог быть и риторичным (риторикой своей эпохи). Он мог принять участие в своего рода «игре»: написал «155-й сонет Шекспира» (как известно, у Шекспира их 154). Даже если бы у нас не было свидетельства Ю. Шрейдера, что Шаламов таким образом откликнулся на его шутку, стилизация очевидна. Перенесемся на 25 лет – экспромтный сонет Шаламова создан весной 1975 года [2, с. 541].
155-й СОНЕТ ШЕКСПИРА
Когда на грани глухоты опасной
Мы тщимся бедной мыслью обуздать
Незавершенность музыки прекрасной
И образ Совершенства ей придать –
Так и ваятель, высекая искры,
Стремится в камне душу разбудить,
Так любящий безумствует, неистов
В своем желанье страсть опередить.
Так воин рвется смерть принять в сраженье…
Когда ж нас озарит разгадки свет?
Ведь счастье не в конце, а в продолженье
Мгновенья… Но кончается сонет.
Как отраженье вечности нетленной
Песнь вырывается у времени из плена.
[10, с. 266–267]
На мой взгляд, это очевидная стилизация под Шекспира Маршака. Стилистика сонетов Маршака не была органичной для Шаламова, отсюда – откровенность стилизации.
Стихотворения Шаламова с аллюзиями на героев трагедий Шекспира
Влияние стилистики переводов на Шаламова не могло быть им осознано: иностранными языками он не владел – Шекспира в оригинале не читал. Мы можем быть уверены, что сонеты в переводе Маршака он знал. Знаком ли Шаламов с переводами трагедий именно Пастернака, как мы бы предположили? Думается, так близко общаясь с ним по возвращении из Колымы, Шаламов мог читать.
«Розовый ландыш» – стихотворение, датированное 1953–1956 [9, c. 82]. В.В. Есипов, работавший с рукописями, отметил, что первоначальное название «Ландыш» Шаламов зачеркнул и сверху карандашом написал «Розовый ландыш» [1, c. 491]. Розовый (красный) ландыш, растущий на Колыме, упомянут еще и в рассказах «Тропа» и «Воскрешение лиственницы» (Там же).
Как и название, первое четверостишие откорректировано. Строки «Мы верим житиям святых / С их мукой и любовью: / На их могилах рвем цветы, / Напитанные кровью» (Там же) Шаламов зачеркнул и тем же карандашом сбоку вписал окончательный вариант – построенный через вопросительную конструкцию, но весьма определенный – не предполагавший отрицательного ответа: «Не над гробами ли святых / Поставлен в изголовье / Живой букет цветов витых, / Смоченных чистой кровью» [9, c. 81]. «Жития святых», на мой взгляд, могут уводить мысль к более отдаленным временам; когда речь идет о могилах, гробах святых, думаешь о современниках Шаламова. Пронзительно упоминание «ребяческих ладоней» склонившегося в земном поклоне цветка: «И видны робость и испуг / Цветка в земном поклоне, / В дрожанье ландышевых рук, / Ребяческих ладоней» (Там же).
Логично предположение, что Шаламов мог вернуться к стихотворению и переписать его специально для чтения 24 июня 1956 г. при встрече с Пастернаком и его гостями в Переделкине [1, c. 491]. В том, что стихотворение там и тогда прочитано, мы можем быть уверены, ибо Шаламов оставил соответствующую запись в дневнике (Там же).
Описание юного розового цветка, набирающего цвет и силу («Назавтра вырастет в цветок, / Пожаром опаленный»), сменяется в пятой строфе развернутой ремаркой о производимом им впечатлении: «И, как кровавая слеза, / Как Макбета виденье, – / Он нам бросается в глаза, / Приводит нас в смятенье» [9, c. 81]. (Прозвучавшее имя из кровавой трагедии Шекспира в России произносили с ударением на первом, а не на втором слоге, как в английском языке.) Не только нам, но всем собравшимся в Переделкине мог вспомниться перевод «Макбета» хозяина дома. Первая фраза Макбета, когда он видит дух Банко на предназначенном ему, убийце и узурпатору, месте: «Меня не сможешь в смерти ты винить. / Зачем киваешь головой кровавой?». Шаламов в шестой строфе словно вторит: «Он глазом, кровью налитым, / Глядит в лицо заката, / И мы бледнеем перед ним / И в чем-то виноваты» [9, c. 81]. (Леди Макбет у Шекспира отмечала бледность мужа: «Пот холодный, / И дрожь, и бледность…»)
Трагедия промелькнула в сравнительном обороте, и далее шекспировских аллюзий нет. Шаламов возвращается к цветку, к себе/нам, но вопросы остаются, особенно когда мы всматриваемся в черновики – в промежуточные варианты, написанные Шаламова карандашом: «Он глазом, кровью налитым, / Глядит, никем не смятый. (Глядит, еще не смятый.) / И мы стоим пред ним (И мы бледнеем перед ним), / Как в чем-то виноваты (Как будто перед ним / Мы в чем-то виноваты)» [5]. Достраивая шаламовскую реальность и параллели, задумываешься: вина в непротивлении насилию и убийству?
Финал Шаламова звучит удивительно светло, и явление призрака Банко, бурные реакции Макбета, если и успели промелькнуть в нашем сознании, вытесняются шаламовским светом: «Я слышу, как растет трава, / Слежу цветка рожденье. / И, чувство превратив в слова, / Сложу стихотворенье» [9, c. 82].
Наиболее развернутый и концептуальный из шекспировских текстов Шаламова – «Фортинбрас». Он называл его «маленькой поэмой» [8]. В черновых автографах есть вариант заглавия: «Баллада о Фортинбрасе» [1, c. 520]. Произведение датировано 1954–1955 [9, c. 211], и сохранился вариант 1955 г. [1, c. 436–437]. Сначала «Фортинбрас» входил в последний сборник «Колымских тетрадей» «Высокие широты», но на заключительном этапе работы над сборником «Лично и доверительно» он был поставлен Шаламовым сюда – финальным стихотворением [1, c. 513].
Литература
1. Есипов, В. В. Примечания / Шаламов, В. Т. // Стихотворения и поэмы : в 2 томах / Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2020. – Т. 1. – С. 449–572 с.
2. Есипов, В. В. Примечания / Шаламов, В. Т. // Стихотворения и поэмы: в 2 томах / Составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2020. – Т. 2. – 449–587 с.
3. Ильин, Б. Театр в жизни юного В. Шаламова / Б. Ильин // Шаламовский сборник / составитель и редактор В. В. Есипов. – Вологда ; Новосибирск : Common place, 2017. – Вып. 5. – С. 529–543.
4. Письма Варлама Шаламова. Публикация Б. Лесняка // Континент. – 1992. –Вып. 74. – С. 159–179.
5. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 29.
6. Шаламов, В. Т. Слишком книжное / В. Шаламов ; предисловие и публикация И. П. Сиротинской // Книжное обозрение. – 1988. – 25 ноября (№ 47). – С. 8–10. – URL: https://shalamov.ru/library/21/67.html (дата обращения 1.08.2024). – Текст : электронный.
7. Шаламов, В. Т. Афинские ночи // Шаламов, В. Т. Колымские рассказы / В. Т. Шаламов ; состав и сопроводительная статья Любы Юргенсон. – Москва : Время, 2018. – С. 540–553.
8. Шаламов, В. Т. Собрание сочинений : в 6 томах / В. Т. Шаламов. – Москва : ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – Т. 3. – C. 449.
9. Шаламов, В. Т. Стихотворения и поэмы : в 2 томах / Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2020. – Т. 1. – 591 с.
10. Шаламов, В. Т. Стихотворения и поэмы: в 2 томах / Составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2020. – Т. 2. – 640 с.
11. Шаламов, В. Т. Четвертая Вологда : повесть, рассказы, стихи / Варлам Шаламов ; [составитель, ответственный редактор, автор вступительной статьи и комментарии В. В. Есипов]. – Вологда : Древности Севера, 2017. – 271 с.
12. Шекспир. Гамлет. В поисках подлинника / Шекспир ; перевод, подготовка текста оригинала, комментарии и вводная статья И. В. Пешкова ; перевод под редакцией Г. Н. Шелогуровой. – Москва : Лабиринт, 2003. – 352 с.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.