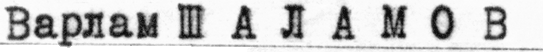
Синтаксическое оформление речи персонажей в прозе Варлама Шаламова
В статье рассматриваются синтаксические особенности контекстов речи персонажей. Устанавливается зависимость их синтаксической организации от физиологического, психологического, морального состояния говорящего. Выделяются некоторые синтаксические приметы индивидуального стиля Шаламова.
Проза Варлама Тихоновича Шаламова, отличающаяся самобытным содержанием и художественным своеобразием, вызывает закономерный исследовательский интерес на протяжении нескольких последних десятилетий. Поэтике писателя посвящено множество статей, написаны диссертации, изданы монографии (особое место среди которых, на наш взгляд, занимает такая глубокая и яркая работа, как «Незаконная комета» Елены Михайлик (Михайлик, 2018)). Сфера исследовательской проблематики включает в себя вопросы повествования, мифопоэтики, художественного мира, композиции. Работы посвящаются отдельным шаламовским сюжетам, мотивам, жанровой природе «Колымских рассказов». Имея в виду многочисленные ценные открытия в аспекте литературоведения, вместе с тем, представляется интересным и плодотворным обратить внимание на собственно языковые механизмы воплощения авторского замысла, а именно на синтаксическую организацию текстов Шаламова. В данной работе мы обратились к синтаксису речевых контекстов, который мы рассматриваем, опираясь на лингвистическую традицию, разработанную в трудах В.В. Виноградова (Виноградов, 1980) и Е.А. Иванчиковой (Иванчикова, 1979).
Синтаксическая организация речи персонажей обнаруживает взаимосвязь с принципами «новой прозы», изложенными Шаламовым в ряде своих литературоведческих работ (Шаламов, 2016). Среди них: отказ от классического развития сюжета и разработки характера персонажа, минимум описательных подробностей, серьёзность в выборе темы, о которой «должно быть рассказано ровно, без декламаций» (Там же: 99). Одно из ключевых составляющих авторской интенции Шаламова – «передача определённого психического состояния» (Там же: 92), – а также специфика материала (в большинстве «Колымских рассказов» повествуется о событиях лагерной жизни) обусловливает особенности организации речевых фрагментов, соотносимых с субъектной сферой персонажа или принадлежащих диегетическому повествователю, в зависимости от их положения на шкале колымского времени. Здесь будет иметь значение, повествуется ли о событиях следствия, когда человек ещё не подвергся воздействию лагерной среды, о времени пребывания в лагере или после освобождения. Строение речи персонажа также определяется его текущим лагерным статусом – в зависимости от того, предстаёт ли герой заключённым-доходягой, студентом фельдшерских курсов или уже отступившим на несколько шагов от колымского ада – освобождённым от общих работ фельдшером.
В нескольких рассказах речь персонажа – точнее, «воскрешение» речи, языка как неотъемлемой части человеческого облика – становится объектом внимания и самого автора.
Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? – Фразы ворочались в мозгу, причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что я давно забыл такие слова. И вот вновь явились слова – и главное, повинуясь моей собственной воле. Это было похоже на чудо (Шаламов, 2022: 232); Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, живущие около костей <…> двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами <…> Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос (Там же: 337).
В полном соответствии с окружающим контекстом, фрагменты речи в рассказах, действие которых происходит в лагере в стандартных речевых ситуациях (работа фельдшера, общение с лагерным начальством и т.п.), в большинстве своём устроены просто – они представляют собой короткие, отрывистые фразы, шаблонные, стандартные речевые формулы тюремного канцелярита. Частотны императивные конструкции, номинативные предложения.
– Этап с Золотистого! – Чей прииск? – Сучий. – Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам <…> Начнём? – Подождём, пока придут бойцы для обыска. – Новый порядок? <…> – Проходи на середину – вот ты, с костылями. Документы! (Там же: 192); Снимайте все повязки. – А гипс? – Ломайте весь гипс. Наложат завтра новый (Там же: 193); Слушай, Крист, – сказал начальник, – к тебе привезут гостей. <…> Вымоешь их. Дезинфекция и прочее. – Слушаюсь. – Ни один человек знать об этих людях не должен. Никакого общения (Там же: 195); – Тебя ищет нарядчик, – подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика. – Собирайся! <…> – Сейчас, сказал Голубев. – На вахту придёшь (Там же: 278); – Подожди, ты ещё подзайдёшь, подзасекнёшься, – по-блатному грозил мне начальник больницы, доктор Доктор <…> – Встань, как полагается (Там же: 312).
В следующем отрывке из рассказа «Прокуратор Иудеи» в тексте соседствуют два речевых отрезка, отнесенные к одному персонажу – доктору Браудэ. Первый отражает ситуацию общения в официальной обстановке: Алексей Алексеевич, <…> Разрешите мне командовать. Я всё это знаю. Я здесь десять лет (Там же: 187); второй – небольшой монолог, обращённый к самому себе: Ампутации, только ампутации <…> Сейчас скучать не придётся <…> А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там всё инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма! (Там же: 187). Заметна выразительность интонационного рисунка и усложнённая ритмическая организация второго фрагмента.
Контрастом к стандартным лагерным речевым сценариям выступают диалоги персонажей, находящихся вне Колымы – в следственной тюрьме, на Вишере тридцать первого года, в городской обстановке 50-х годов (рассказы «Ожерелье…», «Академик», «Алмазная карта», «Лучшая похвала», «Букинист»). Такие диалоги насыщены более глубоким содержанием: персонажи делятся друг с другом опытом, историями из жизни, обсуждают российское общественное движение, затрагивают философские и социальные проблемы (взаимоотношение разума и чувства, зыбкость культурного слоя в цивилизации и человеке, особенности национального характера и т.д.). Соответственно, такие фрагменты отличаются усложнённой стилистико-синтаксической организацией.
Так, в рассказе «Ожерелье княгини Гагариной» диалог является двигателем сюжета. Строение диалога символически представляет действительность: в следственной камере заключённые имеют ещё человеческий облик, они пока не сломлены, не раздавлены Колымой – и это отражено в языке, в тюремных играх, темах бесед. В речах персонажей прослеживаются индивидуальные черты. Речевая манера Миролюбова эмоциональна, местами патетична, наполнена экспрессивными, сравнительными конструкциями. Возникает контраст с образами Криста и Андреева, спокойная, рассудочная, местами – ироничная речь которых «выдаёт» в них опытных арестантов.
Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Миролюбову.
– Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путны не подделан. Я знаю его почерк слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута – помните эти исторические сыскные дела, этот протокол допроса петровского времени.
– Искренне завидую вам, – сказал Крист, – что любовь к литературе всё превозмогает. Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии, на сравнения, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле. Ясно одно: Путна арестован (Там же: 205).
Изобразительный синтаксис речи персонажей создаётся разнообразными экспрессивными синтаксическими конструкциями. Среди них часто встречается усечение (апозиопезис). Данный тип конструкций придаёт напряжённый характер диалогам, создаёт конфликтность, мотивирует переход от одного композиционного звена к другому, имитирует ситуативность, неподготовленность, эмоциональность речи.
– А почему её в самом деле не кладут? У ней с туберкулёзом неблагополучно.
– Да ведь это кобёл, – грубо вмешивается нарядчик. – О ней постановление было. Запрещено принимать. Да ведь спала же без меня. Или без мужа…
– Врут они все, кричит Валя Громова бесстыдно. – Видите, какие у меня пальцы. Какие пяти…
Фельдшер плюёт на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истерический приступ (Там же: 195)
Письмо Варпаховского Рыдасова получила прямо из почтового ящика своей магаданской квартиры.
Это не понравилось ей и очень не понравилось Ивану Фёдоровичу.
– Обнаглели до крайности. Любой террорист… (Там же: 216).
Ср. похожий эпизод в рассказе «Аневризма аорты»: – Я к вам, гражданин начальник, по важному делу. Отправляют Гловацкую. У ней аневризма аорты, тяжёлая. Любое движение…
– Вон отсюда! – заорал начальник. – До чего дошли, подлецы! В кабинет являются… (Там же: 276).
Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал “дело” Скоросеева.
– Гражданин начальник, я ещё могу…
– Сторожем поставлю… (Там же: 295).
Они вышли на трассу, на шоссе Пугачёв поднял руку и остановил грузовик.
– Вылезай! – он открыл дверцу кабины грузовика.
– Да я…
– Вылезай, тебе говорят.
Шофёр вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе <…>
Как будто здесь поворот.
Машина завернула на один из…
– Бензин весь!..
Пугачёв выругался (Там же: 305).
В последнем примере мы наблюдаем интересное явление: фрагмент диалога, помимо усечённых конструкций, отнесённых к речи персонажа и передающих динамику сменяемых друг друга действий, содержит также усечение фрагмента авторской речи, выполняющее ту же функцию.
Вообще, случаи взаимодействия фрагментов, относимых к различным типам речи – проникновение речи персонажей внутрь повествовательных фрагментов, возникновение диалогических, акциональных связей между повествовательными и речевыми блоками – довольно распространённое явление в текстах Шаламова.
Тёмные глаза сестры-хозяйки улыбались мне, но больше улыбались самой себе, внутрь себя самой.
– Почему это, Ольга Томасовна?
– А-а, вы заметили. Я всегда думаю о другом. О прошлом. О вчерашнем. Стараюсь не видеть сегодняшнего (Там же: 230).
– Вот, почитайте, что нынче дежурный врач отхватил. Вот рапорт Зайцева.
Парторг отошёл к окну и, отогнув занавеску, поймал свет, рассеянный толстым заоконным льдом, на бумагу рапорта. Ну?
– Это, кажется, очень опасно…
Начальник захохотал (Там же: 275) – короткая вопросительная реплика начальника больницы («Ну?») помещена внутрь повествовательного отрезка (повествовательной ремарки), рисующего действия его собеседника.
Закрывая лицо надушенным платком, следователь Фёдоров изволил беседовать со мной:
– Не хотите ли газетку – вот видите, Коминтерн распущен. Вам это будет интересно.
Нет, мне не было это интересно. Вот закурить бы.
– Уж извините. Я некурящий. Вот видите – вас обвиняют в восхвалении гитлеровского оружия… (Там же: 289).
Уоллесу всё было интересно. Как здесь растут капуста, картошка? Как её сажают? Рассадой? Как капуста? Удивительно. Какой урожай с гектара? (Там же: 208) – проникновение отдельных реплик диалога внутрь повествовательного блока – вопросительные реплики и реплика, выражающая нейтрально-вежливую реакцию на ответ.
Я был поражён знаниями рыжего курсанта. Хирург разглядывал торжествующего “Флеминга”. Кто же ты, ночной санитар? Кто?
– Кем же ты был на воле?
– Я капитан. Капитан инженерных войск… (Там же: 318). Авторское повествование переходит в диалог. Заметно структурное и интонационное сходство двух фрагментов.
Встречается сцепление речевых фрагментов и повествовательных фрагментов, выражающих следствие из сказанного ранее, действенную реакцию на предыдущую фразу:
– Не люблю кошек. Вот это – дело другое. – Филатов притянул к себе серого густошерстого щенка и потрепал его по шее (Там же: 199).
Повар открыл дверь и крикнул: – Медведи! – Все опрометью бросились к двери (Там же: 199).
Своеобразный художественный эффект – недосказанности, нарушенного ожидания – создаётся взаимодействием между повествовательным и речевым блоками в рассказе «Начальник больницы».
Вечером третьего дня навестил меня начальник лагеря. За всю свою лагерную практику на Колыме ему ещё не приходилось встречать такой меры наказания за проступок, которую требовал доктор Доктор, и начальник лагеря пытался что-то понять.
Он остановился у трапа.
– Здравствуйте, гражданин начальник.
– Сегодня твоя каторга кончается, можешь больше в изолятор не ходить.
– Спасибо, гражданин начальник.
– Но сегодня доработай до конца.
– Слушаюсь, гражданин начальник(Там же: 315).
Повествовательный блок эксплицитно вводит в текст дополнительную субъектную сферу (начальник лагеря) – через конструкцию с глаголом мышления. Однако дальнейшего развития эта субъектная сфера не демонстрирует – последующий речевой фрагмент представляет собой нейтральный диалог, наполненный фразами тюремного канцелярита. На возникающем контрасте ярче вырисовывается образ начальника лагеря, его «задумчивый вид», и усиливается внимание к тому, что в сцене не досказано, не выражено вербально, но является важным содержательным элементом данного рассказа. Сцена рисует отголоски той страшной силы, что уничтожила тысячи людей в лагерях. Эта сила действует через таких персонажей, как доктор Доктор, – но в этом рассказе она оказывается несостоятельной; полномочий начальника больницы хватает только на то, чтобы добиться наказания в виде трёх дней каторжных работ.
Та же мысль выделяется переходом на настоящее время в одном из следующих повествовательных фрагментов:
Свидетелей, что ли, привёл доктор Доктор, чтобы спровоцировать что-либо, хоть маленькое нарушение. Изменилось время, изменилось. Это понимает и доктор Доктор, понимаю это и я. Начальник и фельдшер – это не то, что начальник и простой работяга. Далеко не то (Там же: 316).
В завершение обзора синтаксических особенностей организации речи персонажей, ещё раз подчеркнём их связь с жанровой спецификой прозы Варлама Шаламова, которая проявляется в строении речевых фрагментов и их обусловленности ситуативным контекстом. Наблюдается тесная корреляция между синтаксической организацией речи персонажей и их физиологическим, психологическим, моральным состоянием. В качестве одной из наиболее распространённых в рассказах Шаламова экспрессивных конструкций, рисующих речь, выделяется усечение. Своеобразие художественной манеры писателя находит выражение также в интенсивном взаимопроникновении повествовательных и речевых фрагментов. Выделенные, «сплавленные» таким образом фрагменты текста сближают субъектные планы персонажей, актуализируют связи между отдельными компонентами образа автора, усиливают смысловые акценты.
Литература
1. Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. Избранные труды. М.: Наука, 1980. 360 с.
2. Иванчикова Е. А. Синтаксис художественной прозы Достоевского. М.: Наука, 1979. 286 с.
3. Михайлик Е. Ю. Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. 376 с.
4. Шаламов В. Т. Всё или ничего: Эссе о поэзии и прозе. СПб.: Лимбус Пресс, 2016. 522 с.
5. Шаламов В. Т. «Колымские рассказы» в одном томе. М.: Издательство «Э», 2018. 928 с.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.