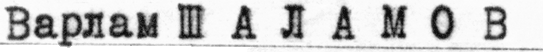
,
Шаламов на Западе
В разделе [«Шаламов на Западе», Шаламовский сборник, 6] публикуются материалы об издании и рецепции произведений В.Т. Шаламова на Западе. Представляем две статьи доктора филологических наук, профессора кафедры английского языка Вологодского государственного университета Л.В. Егоровой. В первой из них впервые детально проанализированы «вольности» редактирования «Колымских рассказов» редактором эмигрантского «Нового журнала» (Нью-Йорк, США) Романом Гулем при их публикации в этом журнале в 1966–1976 гг. Вторая статья посвящена переводам «Колымских рассказов» на английский язык, выполненным в 1980–1981 гг. Дж. Глэдом (США) и в 2018–2020 гг. — Д. Рейфилдом (Великобритания). Подробнее эти и другие проблемы будут рассмотрены в монографии Л.В. Егоровой «Издать и перевести невозможное: из истории “Колымских рассказов”». Для понимания специфики рецепции Шаламова в англоязычном мире (и в целом на Западе) большой интерес представляют вступительные тексты, написанные обоими переводчиками-славистами для данных изданий. Эти тексты впервые публикуются на русском языке в переводах студентов Вологодского государственного университета А. Попова и С. Кузнецова (редакция переводов Л.В. Егоровой). Анализу особенностей западного восприятия творчества Шаламова и фактов его биографии на примере их интерпретации у Дж. Глэда и Д. Рейфилда посвящено послесловие В.В. Есипова.
Людмила Егорова
О том, как Роман Гуль редактировал Варлама Шаламова (на примере рассказа «Сентенция»)
О том, что Роман Гуль не собирался следовать воле Шаламова — его композиции колымской эпопеи, свидетельствует первый же выпуск рассказов в No 85 «Нового журнала» (четвертый номер за 1966 г.). Он открывается не рассказом «По снегу» (этот рассказ Гуль не опубликует), а «Сентенцией». От этого заключительного рассказа цикла «Левый берег» Гуль возвращается к первому циклу. Он пропускает «На представку» (опубликует в следующем номере), «Ночью» (рассказ не будет им опубликован), «Плотники» (будет в No 91) и «Одиночный замер» (будет в No 89). Не комментируя разброс, отметим, какие еще рассказы, кроме «Сентенции», Гуль включает в первый для читателей Шаламова выпуск: «Посылка», «Кант», «Сухим пайком». У Шаламова после «Посылки» идет «Дождь», но этот рассказ, по всей видимости, Гулем «не одобрен». Не буду останавливаться на дальнейших нарушениях художественной логики «художественной ткани» Шаламова — для Гуля их словно не существовало.
Неизбежны закономерные вопросы. Почему Гуль, неоднократно декларировавший целью журнала «свободное творчество, свободную мысль», счел возможным нарушать авторский замысел «Колымских рассказов»? Думается, ощущение целостного цикла очевидно и без знания комментария Шаламова, подчеркивавшего в эссе «О прозе»:
«Композиционная цельность — немалое качество «КР». В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал «КР» — как целую книгу, а не отдельными рассказами — отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят все читатели. Объясняется это не случайностью отбора, тщательным вниманием к композиции» [Шаламов 2005 : 153].
Недоумение по поводу редактирования усиливается в связи с тем, что, если выбор Гуля пал именно на эти рассказы, логично было бы предположить, что их он оценил. Почему же он «довольно сильно» их правил?
Известно, что No 85 «Нового журнала» был в домашней библиотеке Шаламова, откуда затем попал в архив Шаламова в РГАЛИ. В книге «Шаламов» серии «ЖЗЛ» В.В. Есипов справедливо предположил, что журнал — не сразу, а спустя какое-то время, — могли передать знакомые, общавшиеся с зарубежными дипломатами и журналистами:
«Шаламов, по свидетельству Сиротинской, был «взбешен» этой публикацией, которая заведомо разрушала художественную структуру его сборников: она начиналась в журнале почему-то «Сентенцией» и затем — в течение почти десятка лет! — тасовалась, как карты, в зависимости от воли редактора. При этом, что было самым оскорбительным для Шаламова, создавалось впечатление о его постоянном тайном сотрудничестве с «Новым журналом», что вызывало к нему дополнительное внимание». («При моей и без того трудной биографии только связей с эмигрантами мне не хватало», — писал он в дневнике.) [Есипов 294].
Сошлемся на первоисточник — интервью И.П. Сиротинской Джону Глэду, где она сначала повторила, а затем скорректировала его формулировку о недовольстве Шаламова Гулем:
Глэд. Он был недоволен Романом Гулем, редактором нью-йоркского «Нового журнала».
Сиротинская. Да, очень недоволен, он был просто в бешенстве. Гуль печатал его аптекарскими дозами. Первую книгу Варлам Тихонович отправил на Запад через Надежду Яковлевну Мандельштам. Насколько я знаю, это была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома. Но Шаламова очень разочаровало то, что сделали с его первой рукописью. Он ждал, что его издадут отдельным томом, что будет какой-то удар, резонанс. Он считал, что смягчили восприятие его прозы вот этими маленькими дозами. Позже он счел, что Запад его не оценил, и перестал поддерживать отношения с западными гостями. Так что все последующие публикации были взяты из «самиздата».
Ситуация сложилась парадоксальная. Гуль гордился: «Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой — страшный и бесчеловечный ад Колымы» [цит. по: Клоц 234–235]. Кларенс Браун, занимавшийся переправкой материалов Осипа и Надежды Мандельштам, а затем Шаламова в Штаты, считал себя борцом культурного фронта: «...мы вели войну на культурном фронте, публикуя писателей, которые раздражали убивших их диктаторов» [Браун 439]. Шаламов же «был просто в бешенстве». Его гневное письмо в «Литературную газету» 15 февраля 1972 г. (напечатано 23 февраля) говорит само за себя:
«Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке <...> публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы». <...>
Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник.
Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма…».
Рассмотрим первый из напечатанных Гулем рассказов Шаламова — вглядимся и вслушаемся в его правку текста «Сентенции». Думается, что она не могла не возмутить Шаламова. По меркам Гуля, это — не самый урезанный и сильно исправленный рассказ. Гуль должен был высоко оценить «Сентенцию», чтобы именно ею открыть публикацию Шаламова в «Новом журнале». Тем не менее, правки много, и много выпущенного текста. Очевидно, что редактор брал на себя роль «скульптора, отсекающего все лишнее», ориентируясь на некую свою «норму», основой которой, как можно догадываться, был его личный вкус, собственные стилистические пристрастия[1]. Такая редакторская правка обычно называется «вкусовой», в принципе отвергаемой правилами литературного редактирования. Но у Р. Гуля на этот счет, по-видимому, были свои понятия…
Он вносил правку, подчас оправданную грамматикой, но воспринимается она как излишне «правильная» для Шаламова, интуитивно ощущавшего естественный язык, который в его рассказах всегда имеет особый, сугубо индивидуальный интонационный рисунок и ритм. Это, как уже не раз отмечалось, «проза поэта», именно проза «на звуковой основе», как подчеркивал сам писатель (см., например, «О прозе»).
Читая Шаламова, чувствуешь, что он ставит знаки препинания согласно произносимому: Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла — и получая взамен мое.
Гуль нарушает эту органику: …отдавая свое тепло — капли тепла, и получая взамен мое.
У Шаламова пунктуация отражает структуру, смысл, интонацию. Его постановка тире требует серьезного исследования многозначности, семантики этого знака[2]. Тире у Шаламова, прежде всего, — сигнал о значительной внутрифразовой паузе. В его тире — различное собственно логическое и эмоционально-экспрессивное наполнение. Пунктуация выступает как особый семиотический код. Роман Гуль, по-видимому, этого не ощущал.
Не учитывал он и того, что, согласно традициям русской художественной прозы, паремии в тексте не выделяются кавычками, а органично вплетаются в повествование. У Шаламова пословицы и поговорки становятся «своими», авторское растворяется в общем, народном (здесь и далее подчеркивания мои): Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: не спрашивай — и тебе не будут лгать. Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: не веришь — прими за сказку.
Гуль в данном случае, во-первых, дважды закавычил (вопреки Шаламову и нормам), во-вторых, убрал важное для Шаламова выделительное тире (не спрашивай — и тебе не будут лгать), в-третьих, убрал эпитеты яркая, грубая из характеристики поговорки: Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: «Не спрашивай и тебе не будут лгать». <...> У блатных на сей предмет есть жесткая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: «Не веришь — прими за сказку».
Правку Гуля, казалось бы, можно воспринять как излишнюю, ненужную, но, на самом деле, проблема глубже. Сопоставляя варианты Шаламова и Гуля, мы убеждаемся, что постановка лишних знаков препинания приводит подчас к нарушению правил русской пунктуации и, как правило, затемняет авторский смысл, меняет логический акцент. Читая Шаламова, мы ощущаем поток его мыслей, чувств. Гуль, если не останавливает, то замедляет этот поток. В данном случае замедляет постановкой ненужного тире перед злобой, словно мы имеем дело не с потоком сознания; а также запятой после и, выделяющей деепричастный оборот. Там, где Шаламов повествует, устремляясь вперед, Гуль расчленяет поток сознания.
Текст по собранию сочинений (далее — СС): Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Гуль: Что оставалось со мной до конца? — Злоба. И, храня эту злобу, я рассчитывал умереть.
Продолжу цитирование.
СС: Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью.
Гуль: ... Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью.
У Шаламова за счет постановки причастия после существительного, не исключено, острее воспринимается эта оппозиция: жизнь — смерть, и потом вводится полусознание, не сливаясь со смертью, как у Гуля.
Гуль стремится к унификации, но его унификация разговорности Шаламова неизменно разочаровывает:
СС: Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «Титан».
Гуль: Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для «Титана», кипятильника системы «Титан».
И далее: СС: Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду. Гуль: Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы «Титан» закипал к обеду.
Привлеку внимание к тому, ЧТО Гуль выпускает, а выпускает он много.
1) В журнале сохранено авторское: Колыма научила всех нас [Гуль изменяет порядок слов — нас всех] различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая. (Еще раз подчеркну, что изменение порядка слов так же, как и изменение пунктуационных знаков, приводит к иному восприятию смысловых акцентов автора.) Следующего абзаца у Гуля нет: Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела. Рассуждение показалось редактору «Нового журнала» слишком философическим?
2) Далее мы видим шаламовское предложение: Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, — обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Следующие два предложения пропущены: Вчерашний или позавчерашний суп из «вольного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось. Причину пропуска сложно предположить, как и в следующем случае.
3) Упущено предложение об анекдоте: Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Следующее предложение дано: Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность [Здесь Гуль поставил запятую] раскрылась [У Гуля — раскрылись] передо мной не в детстве и не в юности. Об анекдоте, соответственно, Гуль снова убирает: Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки.
4) Гуль последовательно ограничивает экспрессивность и размах Шаламова (подчеркиваю им выпущенное):
Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:
— Сентенция! Сентенция!
И захохотал.
— Сентенция! — орал [У Гуля — кричал] я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь тем лучше, — тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо [У Гуля — переполнила меня].
5) Исчезают и шаламовские кавычки для обозначения прозвища. У Шаламова они воспринимаются органично:
— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. «Три табачинки».
— Вронский, дай закурить.
— Нет, у меня нету.
— Ну, хоть три табачинки.
— Три табачинки? Пожалуйста.
Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.
6) Выпускает Гуль и следующие подчеркнутые мной реплики:
— Иностранец? — Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.
Но мне не было дела до провокационного вопросов Вронского. Находка была чересчур огромна.
— Сентенция!
— Псих и есть.
С этим финальным произнесением новооткрытого слова и реакцией у Шаламова звучит психологически сильнее.
7) Подчас, как в разговоре о реке, «Новый журнал» проявляет небрежность.
СС: Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Гуль: Ее вечное движение, покой, неумолчный, свой…
8) И снова Гуль позволит себе вычеркивать, пропускать. В «Новом журнале» есть предложения: Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало. Всего дальнейшего нет.
СС: Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли — картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.
Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово.
Мы помним претензии Гуля к рассказам Шаламова: Дело в том, что они оч<ень> однообразны и оч<ень> тяжелы по темам. Думается, что данный отрывок под эти критерии ни в коей мере не подпадает. Почему же он, как многие другие, удален?
9) Гуль продолжает править, снимая накал чувств Шаламова, размах, объемлющий мир, небо: Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей [Гуль: Я шептал его, пугал и смешил им соседей]. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода. [Я хотел разгадки...] И далее снова убрано: А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страха — потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.
10) Не исключаю, что в силу неразборчивости машинописи, но Гуль поправил шаламовское начало предложения: На огромном лиственничном пне… — в пользу лиственного пня.
11) Убрал он и поразительное последнее предложение: Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет…
Думаю, не только Шаламов — любой автор «взбесился» бы, увидев свой рассказ в такой «обработке» без упоминания факта правки, запечатления имени ее осуществившего.
Правку особенно странно сознавать, когда ты прочел изначальную сноску к публикации «Нового журнала» на странице 5 (рассказы Шаламова и в дальнейшем будут часто открывать выпуски журнала):
«Рукопись этих рассказов мы получили с оказией из СССР. Автор их В.Т. Шаламов, поэт и прозаик, проведший в концентрационных лагерях около 20 лет. Мы печатаем «Колымские рассказы» без со- гласия и ведома автора. В этом мы приносим В.Т. Шаламову наши извинения. Но мы считаем нашей общественной обязанностью опубликовать «Колымские рассказы», как человеческий документ исключительной ценности. Первый рассказ «Сентенция» посвящен Н.Я. Мандельштам — жене погибшего в концлагере поэта Осипа Мандельштама. РЕД.» [Шаламов 1966 : 5]
Безусловно, нужно было руководствоваться не только общественной обязанностью, но и личной ответственностью (в данном случае я имею в виду главного редактора — Романа Борисовича Гуля): публиковать написанное автором. Этот человеческий документ исключительной ценности достаточно было просто воспроизвести — издать книгу. Но книгу Гуль издавать не собирался, следовать шаламовской композиции цикла, неприкосновенности текста — тоже.
Литература
Браун К. Воспоминания о Н.Я. Мандельштам и беседы с ней / пер. с англ. В. Литвинова // «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / сост. и авт. идеи Павел Нерлер. Москва: Редакция Елены Шубиной: Издательство АСТ, 2015. С. 434–483.
Есипов В. Шаламов. 2-е изд., испр. Москва: Молодая гвардия, 2019. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1374).
Клоц Я. Шаламов глазами русской эмиграции: «Колымские рассказы» в «Новом журнале» // «Закон сопротивления распаду». Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Сборник научных трудов / под ред. С. Соловьева, В. Есипова, Я. Махонина и др. — Прага: Национальная библиотека Чешской Республики — Славянская библиотека; Москва : Веб-сайт Shalamov.ru, 2017. — С. 231–257.
Шаламов В. Собрание сочинений в шести томах / составление, подготовка текста, примечания И. Сиротинской. Москва: Терра– Книжный клуб, 2005.
Шаламов В. Сентенция; Посылка; «Кант»; Сухим пайком: [Рассказы] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1966. No 85. С. 5–34.
=========================================
Людмила Егорова
«Колымские рассказы» в переводах Джона Глэда и Дональда Рейфилда
На английском языке «Колымские рассказы» вышли позже, чем на немецком (под заглавием с опечаткой в фамилии автора — «Рассказы заключенного Шаланова», 1967), на языке африкаанс (тоже 1967-й и аналогичная опечатка: это был перевод с немецкого), на французском. В Англии первые рассказы («Почерк» и «Калигула») перевел Мартин Дьюхерст для антологии самиздатской литературы «Russia’s Other Writers» («Другие писатели России») под редакцией Майкла Скэммелла [Shalamov 1971].
Широко англоязычному миру Шаламова представил американский русист Джон Глэд (1941–2015). Фамилия имеет славянское происхождение (родился в семье эмигрантов из Хорватии), и своим русским коллегам он представлялся как Иван Голод. Его перевод «Колымских рассказов» удостоился стипендии Гуггенхайма и был признан Национальной Книжной Премией одним из пяти лучших переводов 1980 года. Впервые в Москве Глэд побывал в 1989 году (предшествовавшие 15 лет в советской въездной визе ему отказывали). С каких текстов он переводил — отдельная история.
Шаламовскую рукопись из СССР в 1966 году вывез профессор Принстонского университета Кларенс Браун (1929–2015). Он пере- дал ее Роману Гулю (1896–1986), писателю и мемуаристу первой волны эмиграции, редактору русскоязычного «Нового журнала» в Нью-Йорке. Позднее в интервью Джону Глэду Гуль говорил, что тогда он Шаламова как писателя не знал: «Я когда-то читал его сти- хи, но особого моего внимания они не привлекли» [Глэд 1991: 47]. Благодаря исследованию Якова Клоца[3] мы знаем о письме Гуля Брауну от 15 сентября 1966 года, где Гуль выражал энтузиазм по поводу привезенной ему рукописи, говорил о возможности ее публикации в «Новом журнале» и предлагал встретиться. В письме от 29 сентября Гуль извещал о возвращении рукописи (по-видимому, уже переснятой) и делился соображениями:
«Заказным пакетом отправляю Вам манускрипт «Колымских рассказов». Я прочел еще не все. В ближайшем (декабрьском) номере Н<ового> Ж<урнала> я дам несколько рассказов: Посылка, Кант, Сухим пайком, Сентенция и м<ожет> б<ыть> Шери-бренди[4], хоть в нем много несделанного, но он явно написан о смерти Мандельштама. Есть вещи совсем плохие, как напр<имер> «Зеленый прокурор». Есть вещи требующие литературной обработки, как напр<имер> «Крест» (это мог бы быть оч<ень> хороший рассказ, но плохо написан[5]). Одним словом, большое Вам спасибо, что Вы дали мне ознакомиться с этой рукописью. Если Вы ее не выпустите по-английски до марта, то м<ожет> б<ыть> в мартовском номере я тоже дам какие-нибудь рассказы. Дело в том, что они оч<ень> однообразны и оч<ень> тяжелы по темам. Тем не менее, считаю рукопись ценной. Из нее надо бы было сделать не очень большую книгу — стр<аниц> в 150–200 (большую ни один читатель не осилит)» [Клоц 2017: 240].
Желанию Шаламова — о публикации целого — тогда не суждено было сбыться. Гуль, согласно намерениям, дал первые четыре названные им рассказы («без согласия и ведома автора») в декабрьском номере (No 85) журнала за 1966 год. Далее на протяжении 10 лет (1966–1976) печатал по 2–3 рассказа в каждом номере (в общей сложности — 50 рассказов). Он находил возможным редактировать шаламовские рассказы, публиковать их в произвольном порядке, нарушая структуру книги. Гуль добавлял эпиграфы, снимал казавшееся ему лишним и не скрывал: «Помещенные в “Н<овом> Ж<урнале>” рассказы Шаламова — отредактированы мной и иногда довольно сильно» (из письма Ежи Гедройцу, главному редактору журнала польской эмиграции «Культура» в Париже, от 24 февраля 1969 года) [Клоц 2018].
Благодаря Гулю и «Новому журналу» Шаламова узнал Джон Глэд. Прочитав нескольких рассказов, он ощутил, что «Шаламов — большой писатель» и «Колымские рассказы» — «шедевр мировой литературы» [Глэд 2013: 26]. Переводил он Шаламова, как если бы «перево- дил Горация или Вергилия» [Глэд 2013: 26]. В другой статье — иное сравнение и авторский контекст: «“Колымские рассказы” я переводил так, как переводил бы Гомера или Цицерона — без какой-либо обратной связи или контакта с автором, хотя Шаламов был еще жив» [Глэд 2017: 327].
Приведу и еще одно говорящее само за себя признание переводчика. Осознав невозможность взаимодействия с издателями («...приходил отказ за отказом. Я восемь раз ездил в Нью-Йорк. Я писал в университетские издательства, но все отказались» [Глэд 2013: 27]), Джон Глэд «переработал все свои переводы, по возможности выкидывая выражения и обороты, которыми я не пользовался бы, если бы сам писал как автор» [Глэд 2017: 327].
Пристальное внимание к характеру разночтений оригинала и перевода [Туркина 2021] говорит о том, что в некоторых случаях определяющим для Джона Глэда мог стать текст лондонского издания под редакцией Михаила Геллера [Шаламов 1978]. В переводе рассказа «Прокуратор Иудеи» Глэд идет за Геллером, а не за Шаламовым, цитирующим американского генерала Риджуэя, участника Второй мировой войны, автора мемуарной книги «Солдат», изданной в Москве в 1958 году: «Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: “Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях”» [Шаламов 1998: 184]. Именно в лондонском издании мы обнаруживаем неизвестно откуда взявшегося генерала Радищева [Шаламов 1978: 612], который и перейдет к Джону Глэду — General Radischev, в то время как у Гуля в «Новом журнале» фигурирует Риджуэй. (По-видимому, лондонское недоразумение — следствие опечатки машинистки, то есть шире — технического качества текстов, переправленных из самиздата и не авторизованных).
В 1980 году Нортоновское издательство выпускает первый том «Колымских рассказов». В предисловии, написанном в мае 1979 года, Джон Глэд отмечал, что книга содержит лишь подборку рассказов Шаламова. Оговаривая, что подборка неизбежно влечет элемент произвольности, он выражал надежду, что рано или поздно на английском появится полное издание рассказов [Shalamov 1980: 16–17].
Рассказы, которые Глэд «просто органически не мог не переводить» [Глэд 2013: 27], сгруппированы им в книге по семи тематическим разделам:
«Выживание» / «Survival» (5 рассказов: «Кант» / «A “Pushover” Job», «Ночью» / «In the Night», «Шоковая терапия» / «Shock Therapy», «В бане» / «In the Bathhouse», «Плотники» / «Carpenters»),
«Надежда» / «Hope» («Сухим пайком» / «Dry Rations», «Сентенция» / «Sententious»),
«Неповиновение» / «Defiance» (3 рассказа: «Протезы» / «Prosthetic Appliances», «Тишина» / «Quiet», «Последний бой майора Пугачева» / «Major Pugachov’s Last Battle»),
«Преступный мир» / «The Criminal World» (3 рассказа: «На пред- ставку» / «On Tick», «Кусок мяса» / «A Peace of Meat», «Заклинатель змей» / «The Snake Charmer»),
«Мир тюремщиков» / «The Jailors’ World» (6 рассказов: «Началь- ник политуправления» / «Chief of Political Control», «Детские картин- ки» / «A Child’s Drawing», «Инжектор» / «The Injector», «Магия» / «Magic», «Первый зуб» / «My First Tooth», «Заговор юристов» / «The Lawyers’ Plot»),
«Связь с Америкой» / «The American Connection» («По лендлизу» / «Lend-Lease», «Сгущенное молоко» / «Condensed Milk»), «Освобождение» / «Release» (3 рассказа: «Эсперанто» / «Esperanto», «Поезд» / «The Train», «Букинист» / «The Used-Book Dealer»).
На суперобложке — цитата писателя Андрея Амальрика: «Одно из глубочайших и наиболее страшных свидетельств об архипелаге Гулаге».
На этот приближенный к американским читателям вариант откликнулись восторженными рецензиями авторитетные издания и писатели, включая Энтони Бёрджесcа, Сола Беллоу (на задней суперобложке книги: «Шаламов — мощный писатель. Люди на Западе часто испытывают неловкость от таких книг, но “Колымские рассказы” — книга необходимая, ее следует прочитать»). После первых 2000 экземпляров через полгода допечатали 2000 и еще через полгода — снова 2000.
Тем временем Джон Глэд предложил издательству следующую подборку рассказов. Второй нортоновский том «Графит» (по названию заключительного у Глэда рассказа) вышел в 1981 году [Shalamov 1981]. На суперобложке — слова Гаррисона Солсбери: «Эти рассказы подобны пригоршне алмазов…».
Как и в первом сборнике, рассказы сгруппированы в тематические блоки — и их снова семь:
«Жизнь» / «Living» (8 рассказов: «Бизнесмен» / «The Businessman», «Апостол Павел» / «The Apostle Paul», «Комбеды» / «Committees for the Poor», «Домино» / «Dominoes», «За письмом» / «The Letter», «Тайга золотая» / «The Golden Taiga», «Тифозный карантин» / «Typhoid Quarantine», «Почерк» / «Handwriting»),
«Еда» / «Eating» (5 рассказов: «Васька Денисов, похититель свиней» / «Vaska Denisov, Kidnapper of Pigs», «Укрощая огонь» / «Fire and Water», «Кража» / «The Theft», «Ягоды» / «Berries», «Выходной день» / «A Day Off»),
«Работа» / «Working» (6 рассказов: «По снегу» / «Through the Snow», «Термометр Гришки Логуна» / «Grishka Logun’s Thermometer», «Житие инженера Кипреева» / «The Life of Engineer Kipreev», «Визит мистера Поппа» / «Mister Popp’s Visit», «Потомок декабриста» / «Descendant of a Decembrist», «Припадок» / «The Seizure»),
«Брак» / «Marrying» («Любовь капитана Толли» / «Captain’s Tolly’s Love», «Прокаженные» / «The Lepers»),
«Воровство» / «Stealing» («Красный крест» / «The Red Cross», «Женщина блатного мира» / «Women in the Criminal World»),
«Побег» / «Escaping» («Прокуратор Иудеи» / «The Procurator of Judea», «Зеленый прокурор» / «The Green Procurator»), «Смерть» / «Dying» (5 рассказов: «Сука Тамара» / «Tamara the Bitch», «Одиночный замер» / «An Individual Assignment», «Шерри-бренди» / «Cherry Brandy», «Надгробное слово» / «An Epitaph», «Графит» / «Graphite»).
Второй сборник Глэд переводил с помощью компьютера и хотел предоставить издательству рукопись в виде файла, но компьютерная практика еще не укоренилась, и там настаивали на традиционном наборе. Фамилия автора на суперобложке в результате — «Шаламав», в книге — большое количество опечаток: «Нортон решил не тратиться на услуги корректора!» [Глэд 2017: 329]. Глэд рассказал, как профессор Джонатан Чейвс поделился с ним, что и второй том мог стать одним из пяти лучших переводов 1981 года, если бы не опечатки [Глэд 2013: 27].
Авторская композиция циклов была частично восстановлена в третьем издании «Колымских рассказов» в 1994 году («Пингви- новская классика ХХ века» («Penguin Twentieth-Century Classics»)). Решающую роль в осознании необходимости соблюдения авторской воли, перевода оригинальных текстов авторского цикла сыграла вашингтонская встреча переводчика в апреле 1990 года с правонаследницей Шаламова Ириной Павловной Сиротинской.
Издание не задумывалось полным и не стало таковым. В книгу вошли рассказы из пяти сборников: «Колымские рассказы» — пере ведены 23 рассказа из 33-х (22 в первом разделе, и «Красный крест» дан в 4-й части книги), «Левый берег» — 11 из 25-и, «Артист лопаты» — 10 из 28-и, «Очерки преступного мира» — 1 (очерк «Женщина блатного мира»; и сюда отнесен «Красный крест»), «Воскрешение лиственницы» — 9 из 30-и. В частности, из сборника «Колым- ские рассказы» остались не переведенными: «Посылка», «Дождь», «Хлеб», «Татарский мулла и чистый воздух», «Первая смерть», «Тётя Поля», «Галстук», «Серафим», «Геркулес», «Стланик».
Каждый их трех сборников (1980, 1981, 1994) Джон Глэд предварил предисловием. В определении жанра он не искусен:
«...литературная форма, пытающаяся преодолеть разрыв между фактом и вымыслом: что-то вроде исторического романа»[6] [Shalamov 1994: xvii]. Цитируемый им до того британский славист Джеффри Хоскинг точнее заметил, что Шаламов выбирает «наиболее лаконичную из литературных форм — рассказ и выписывает его сознательно и бережно, так, что общая структура напоминает мозаику, созданную из крошечных кусочков» [Shalamov 1994: xvi]. Много позже — на конференции в Праге в 2013 году — Джон Глэд вернется к этому образу: «“Колымские рассказы” в своей совокупности представляют собой огромную мозаику, и не все камушки в мозаике могут одинаково блестеть, да и не должны» [Глэд 2017: 335].
Новейший перевод осуществлен Дональдом Рейфилдом (род. 1942, Оксфорд), почетным профессором русской и грузинской литератур Колледжа королевы Марии Лондонского университета (теперь уже в отставке). Кардинальное отличие нью-йоркского издания «Колымских рассказов» (здесь они не «tales», а «stories»: «Kolyma stories») в двух томах [Shalamov 2018; 2020] заключается прежде всего в том, что в основу перевода были положены авторские тексты, изданные И.П. Сиротинской. Отсюда — композиционная целостность цикла. Напомню, ее Шаламов считал «немалым качеством» «Колымских рассказов»: «В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал “Колымские рассказы” — как целую книгу, а не отдельными рассказами — отметили большое, сильнейшее впечатление <...> Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции» [Шаламов 2005: 153].
В первый том (вступление к нему написал сам Дональд Рейфилд) вошли три из шести циклов: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты». Основательную рецензионно-критическую статью для «Los Angeles Review of Books» написала Анастасия Осипова: «The Forced Conversion of Varlam Shalamov» [Osipova 2019]. Когда на книжных сайтах и в сетевых изданиях замелькали механические переводы, сайт shalamov.ru обратился к ней за помощью и опубликовал ее же русскоязычный вариант «Перевод как насильственное обращение» [Осипова].
Отметив достоинства работы Дональда Рейфилда (например, «тонкое чувство ритма — крайне важное качество для работы с музыкально-заряженной прозой Шаламова...»), Осипова проанализировала «неожиданные ошибки» опытного переводчика [Осипова]. Находя, что, «как и многие его предшественники, Рейфилд видит в Шаламове в первую очередь документалиста <...> и уделяет слишком мало внимания поэтике и художественным особенностям шаламовской прозы», Осипова усматривает причину ошибок «в либо намеренном, либо бессознательном цензурировании тех аспектов шаламовской прозы, которые выходят за узкие рамки жанра свидетельства» [Осипова]. Она подчеркивает жадный интерес Шаламова к революционной и авангардной культуре: «Посещает чтения Маяковского, читает формалистов, ходит к Брикам и занимается с Третьяковым. И хотя Шаламов так до конца и не разделит энтузиазм Брика и Третьякова в отношении литературы факта, однако общение с ними безусловно повлияло на сжатый, как бы сконцентрированный, насыщенный документальными подробностями язык “Колымских рассказов”» [Осипова].
Проницательно ее углубление в «двойное дно» документальных деталей, анализ метапоэтического подтекста рассказов. Продуктивен разговор о необходимости предельной внимательности переводчика, равно как и «веры в сложность поэтической конструкции шаламовской прозы» [Осипова]. Думается, что исследования с обеих сторон (русскоязычной и англоязычной) будут и в дальнейшем способствовать постижению шаламовской неоднозначности в узлах смыслов.
Как только переводчик позволяет себе увериться в мнимой про- стоте, прямолинейности перевода Шаламова («translating Shalamov is straightforward» [Rayfield 2018: xviii], он уязвим для ошибок, аналогичных допущенной в первом же рассказе «По снегу». А. Осипова совершенно права: «Кажется, уже только ленивый не отмечал, что этот текст, которым открываются КР, является своего рода манифестом художественной программы всего цикла. Инструкция по протаптыванию дороги по целине, написанная во вполне фактографической манере, в последнем предложении обретает дополнительный смысл метафоры литературного труда в экстремальных условиях...» [Осипова]. Сложно понять, каким образом столь опытный специалист, как Дональд Рейфилд, мог исказить смысловой вектор, четко заданный Шаламовым в заключительном предложении: «Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели» [Шаламов 1998: 7]. Переведя «писателей» и «читателей» как «начальников» и «подчиненных» («As for riding tractors or horses, that is the privilege of the bosses, not the underlings» [Shalamov 2018: 3]), Рейфилд уводит разговор в совершенно иную плоскость.
Во втором томе представлены рассказы трех последних томов «Колымских рассказов»: «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2». В итоге Рейфилд воплотил на английском языке каждый из рассказов шести книг, и это — тяжелый труд. Варлам Тихонович отмечал: «Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой материал собственной шкурой — не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим» [Шаламов 2005: 148]. Рейфилду удается донести до англоязычного читателя шаламовский лаконизм, строгую простоту точного рассказа, запечатлеть авторское искусство детали, в том числе — детали-символа, детали-знака, основополагающих для Шаламова.
Во вступительной статье второго тома важные вещи проговаривает Aлисса Валлес, поэт, переводчица. Она настраивает на филологическое прочтение — излагает важные для понимания Шаламова положения. Мне бы хотелось воспроизвести некоторые из них, начиная с мысли, высказанной Шаламовым в письме Сиротинской в 1971 году, — первой в статье Валлес: «Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму, и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера» [Valles 2020: ix]. Валлес напоминает, что Шаламов противопоставлял собственный идеал прозы обширной «работе лопатой» Толстого: «Пощечина должна быть короткой, звонкой», — и продолжает:
«Большинство рассказов Шаламова действительно короткие, некоторые чрезвычайно короткие, и они вступают в спор как с великими русскими романами XIX века, так и с убогими романами сталинских времен, стремившимися перелить кашу социалистического реализма в псевдоэпическую форму. Пощечина является одновременно фигурой эстетической формы и политического протеста, а в поздних очерках и письмах Шаламова она выступает своего рода девизом, кредо лаконичного неповиновения, перекликающегося — отдаленным эхом — с манифестом русских футуристов «Пощечина общественному вкусу» и — более интимно и непосредственно — со знаменитым началом воспоминаний Надежды Мандельштам «Надежда против надежды»: «Дав пощечину Алексею Толстому, М. немедленно вернулся в Москву»» [Valles 2020: ix].
Плотное письмо Валлес дает возможность по-новому расслышать мысли Шаламова о связи времен, связи культур не только через эхо цитируемого Осипа Мандельштама («Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?»), но и через созвучную на английском языке гамлетовскую мысль («The time is out of joint»). Автор предисловия выявляет шаламовское восприятие своего письма не только как акта свидетельства, но и как акта исцеления или по меньшей мере лечения болезни или травмы [Valles 2020: х]. Размышляя о литературных способах поиска выхода из порочного круга (преступления сталинизма совершались страной против самой себя), она приходит к мысли о неизбежности эллипсиса: «Нарративная пощечина, в отличие от физической, противоположна миметическому насилию: это превращение боли в художественную форму...» [Valles 2020: х].
Размышляя о способах противостояния «нападению на язык, систематически подрывавшему и уменьшавшему силу и жизнеспособность слов», о «воскрешении мертвого в живой памяти», Алисса Валлес вглядывается в то, как Шаламов возвращал слова к органической связи с реальностью. По ее мнению, на помощь ему пришел акмеизм с характерным стремлением приживить поэзию на почве физического, ощутимого мира — в противоположность мистическим неопределенностям символистов. Очерки, написанные наряду с рассказами в 1950–1960-е годы, включая «Болезни языка и их лечение», явились продолжением этой борьбы. Полемическим тоном, призывом к «новой прозе» они напомнили Валлес манифесты довоенного авангардизма. Справедливо ее замечание о том, что вызов и противостояние не в меньшей мере, чем почтение и подражание, являются способами «связать концы с концами» [Valles 2020: х–xi].
Характеризуя «Колымские рассказы», Алисса Валлес приходит к выводу, что они — «изумительное достижение в традиции высокого искусства, удивляющее тем, что оно сохранилось и описывает те самые условия, которые были созданы для его разрушения» [Valles 2020: хviii].
Нельзя не добавить важную деталь. Когда я сочла необходимым опубликовать перевод предисловия Дональда Рейфилда к «Колымским рассказам» и обратились к нему за разрешением на публикацию, он ответил:
«...Очень рад, что дадите возможность русскому читателю ознакомиться с иностранной точкой зрения».
Надо сказать, что, переведя Шаламова, я долго видел страшные сны с тачками, колючей проволокой и просыпался голодным и замерзшим» (из письма 23 февраля 2022).
Литература
Глэд Дж. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. Москва: Книжная палата, 1991.
Глэд Дж. Об изданиях и переводах Шаламова в Америке // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории: сборник трудов Международной научной конференции, Москва — Вологда, 16–19 июня 2011 года / Сост. С. Соловьев. М.: Литера, 2013. С. 26–28.
Глэд Дж. Художественный перевод: теория и практика последнего запретного искусства (на материале «Колымских рассказов» // «Закон сопротивления распаду». Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Сборник научных трудов / Под ред. С. Соловьева, В. Есипова, Я. Махонина и др. Прага: Национальная библиотека Чешской Республики — Славянская библиотека; Москва: Веб-сайт Shalamov.ru, 2017. С. 319–336.
Клоц Я. Шаламов глазами русской эмиграции: «Колымские рассказы» в «Новом журнале» // «Закон сопротивления распаду»... 2017. С. 231–257.
Клоц Я. Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978). (Klots Y. Varlam Shalamov Between Tamizdat and the Soviet Writers’ Union (1966–1978)) // Russian Literature. Amsterdam. 2018. No 96–98. P. 137–166. URL.: https://www.colta. ru/articles/literature/13546-varlam-shalamov-mezhdu-tamizdatom-i- soyuzom-sovetskih-pisateley-1966-1978 (дата обращения: 26.06.2021). Осипова А. Перевод как насильственное обращение. URL.: https:// shalamov.ru/critique/435/ (дата обращения: 26.06.2021).
Туркина Н. Сопоставительный анализ оригинала и перевода: «Прокуратор Иудеи» В. Шаламова и Дж. Глэда // Шаламов глазами молодых: Сборник трудов международной молодежной конференции «Я различаю — где добро, где зло», посвященной творчеству В. Т. Шаламова (Вологда. 18 июня 2021 г.). Вологда: Сад-Огород, 2021. С. 77–83.
Шаламов В. Колымские рассказы. Предисл. М. Геллера. London: Overseas Publications Interchange, 1978.
Шаламов В. Собр. соч. в 4 тт. Т. 1 / Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Художественная литература, Вагриус, 1998.
Шаламов В. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5 / Под ред. И. Сиротинской. М.: Терра — Книжный клуб, 2005.
Osipova A. The forced conversion on Varlam Shalamov // Los Angeles Review of Books. 2019. July 11. URL: https://shalamov.ru/critique/435/ (дата обращения: 26.06.2021).
Rayfield D. Introduction // Shalamov V. Kolyma stories. Translated by D. Rayfield. New York: New York Review Books, 2018. P. IX–XIX.
Shalamov V. A good hand. Caligula. Translated by M. Dewhirst // Russia’s other writers. Selections from Samizdat literature / Ed. by M. Scammell. New York, Washington: Praeger Publishers, 1971. P. 130–145.
Shalamov V. Kolyma tales / Translated by J. Glad. New York: Norton, 1980.
Shalamov V. Graphite / Translated by J. Glad. New York: Norton, 1981.
Shalamov V. Kolyma tales / Translated by J. Glad. London: Penguin, 1994.
Shalamov V. Kolyma stories / Translated by D. Rayfield. New York: New York Review Books, 2018.
Shalamov V. Sketches of the criminal world. Further Kolyma stories / Translated by D. Rayfield. New York: New York Review Books, 2020.
Valles A. Introduction // Shalamov V. Sketches of the criminal world. Further Kolyma stories. New York: New York Review Books, 2020. P. IX–XVIII.
================================
Предисловие Дж. Глэда к «Колымским рассказам» (1994)
[7]Наша позитивистская культура иногда низводит литературу до «художественного знания», что является не самым уместным комплиментом. Нельзя сказать, что такого понятия не существует, но искусство не есть знание. Оно уникально, sui generis (индивидуально в своем роде), самодостаточно. Познание искусства — одно из самых ценных оправданий нашего собственного существования.
В то время как произведение искусства «обогащает» (еще одна неуместная аналогия), оно также создает ощущение послеродовой потери: первый опыт уникален, он не может быть повторен — и не важно, насколько возрастает понимание и оценка произведения, достигаемые за счет внимательного изучения. Если бы мы только могли стереть из памяти наши любимые книги и вновь испытать ощущение нежданного чуда, которое хранят в себе эти произведения! Когда мы советуем друзьям прочитать наши любимые книги, мы испытываем зависть, ибо уже не можем почувствовать ту первозданную магию. И чем больше мы любим книгу, тем сильнее наша тоска. Мы не можем дважды войти в одну и ту же реку, не только потому, что река изменилась, но и потому, что мы сами постоянно меняемся.
Если вы впервые начинаете читать рассказы Варлама Шаламова, вам можно позавидовать, ваша жизнь изменится, и вы будете завидовать другим, еще не вошедшим в эту реку.
«Колымские рассказы» показывают жизнь в советских лагерях, и историки расценивают их как важный документальный материал. У ГУЛАГа есть много летописцев, но только один Варлам Шаламов. Книга может быть прочитана как художественное произведение, основанное на реальных исторических событиях; под «историческим романом» можно понимать «исторический случай»; история в литературе не ограничивается крупными жанрами. Но «Колымские рассказы» это больше, чем история. Если бы лагеря никогда не существовали, эта книга, став лишь плодом воображения, все равно была бы одной из великих книг мировой литературы, только более впечатляющей.
Отделенная от Аляски Беринговым проливом шириной в 55 миль, Колыма в царские времена была местом ссылки и золотодобычи. В 1853 г., например, царский чиновник Муравьев–Амурский смог отправить в Петербург три тонны золота, добытого каторжным трудом[8]. Спустя немногим более полувека Советский Союз, второй в мире крупнейший добытчик золота, также использовал Колыму как огромную тюрьму, где занимались, в основном, добычей золота.
Чрезвычайно трудно точно определить число политических жертв в советский период. 6 апреля 1990 г. советский генерал и историк Дмитрий Волкогонов во время лекции в Пентагоне привел предварительные данные числа репрессированных (заключенных и/или убитых) — 22,5 миллиона. По оценкам некоторых иностранных историков эта цифра значительно больше. Если говорить только о Колыме, то в 1949 г. польский историк Казимир Заморский насчитал 3 миллиона ссыльных, из которых, предположительно, выжило не более 500 тысяч. В 1978 г. Роберт Конквест заявил, что приблизительно 3 миллиона человек встретили свою смерть на Колыме — и уж точно не менее 2–х миллионов. Такие цифры трудно осознать[9].
Период великих чисток — годы с 1937–го по 1939–ый. Миллионы людей были арестованы, месяцами содержались в ужасных тюремных условиях, проходили по сфабрикованным делам и были казнены или отправлены в Сибирь. Истощенные в результате катастрофической нехватки еды, питьевой воды, при отсутствии элементарных удобств, замерзающие на холоде, они прибывали в сибирские порты Владивостока, Ванино и Находки после 30–40–дневной поездки поездом. Там они содержались в пересыльных лагерях разное количество времени.
Эпидемии тифа погубили многих. Тех, кто выжил, отправляли на корабле с «материка» в пересыльные лагеря, служившие рынками рабов для горных работ на Колыме. Некоторые шахты нанимали представителей, чтобы подбирать наиболее подходящих для работы заключенных. Другие просто имели постоянные распоряжения по поводу установленного числа новых заключенных каждый год. Высокая смертность на Колыме приводила к постоянной нехватке рабочей силы.
Корабли, перевозившие заключенных на Колыму, были куплены в Англии, Голландии, Швеции и ранее носили такие названия, как «Пьюджет–Саунд», «Коммерческий квакер». Их строители никогда не планировали использование кораблей для перевозки пассажиров, но советские покупатели нашли их вместительность идеальной для человеческого груза. В морозную погоду заключенных можно было легко контролировать с помощью пожарных насосов.
В 1931 г. был создан советский трест «Дальстрой», ответственный за все принудительные работы в северо–восточной Сибири. С главным управлением в Магадане, «Дальстрой» владел всей Колымой, огромной естественной тюрьмой, ограниченной Тихим океаном с одной стороны, северным полярным кругом — с другой, непроходимыми горами — с третьей. Постепенно «Дальстрой» распространил свою власть на запад до реки Лены и на юг до Алдана — территория, в четыре раза превышающая Францию. Его владения могли даже доходить на запад до Енисея. Если это так, власть «Дальстроя» распространялась на территорию, совпадающую по размерам с Западной Европой.
Рейнгольд Берзин[10], латвийский коммунист, руководил трестом с 1932 по 1937 гг. В течение этого времени условия были относительно удовлетворительными: заключенные получали достаточное количество еды и одежды, а посильной работой и ударным трудом могли сократить срок своего заключения. В 1937 г. Берзин, его заместитель И.Г. Филиппов и еще несколько человек были арестованы и расстреляны как японские шпионы. Управление «Дальстроем» перешло к К.А. Павлову и патологическому убийце майору Гаранину (был казнен в 1939 г.). Эти изменения руководства были обусловлены речью Сталина в 1937 г., в которой он критиковал «поблажки»[11] заключенным.
При Павлове и Гаранине пищевые рационы были сокращены — многие заключенные не надеялись на выживание; одежда и еда не соответстовали суровому климату, заключенных отправляли на работы в 60–градусные морозы.
Иерархия в лагерях была организована таким образом, что высоко стоящие бюрократы обладали практически безграничной властью и привилегиями. В самом низу порядка подчинения находились солдаты и бывшие осужденные, которых освободили, но не позволяли уехать. Их жизненные условия были лишь немногим лучше чем у заключенных.
Привилегированное положение по возможности занимали обычные преступники. Привыкшие к насилию, они легко управляли политическими заключенными, хотя те превосходили их численностью. В целом, самым худшим в лагерях было то, что профессиональные преступники постоянно жестоко обходились с политическими заключенными и убивали их.
С началом Второй мировой войны официальный рабочий день увеличили с десяти до двенадцати часов (хотя неофициально он часто составлял шестнадцать часов), и хлебный паек урезали примерно до полукилограмма в день. Когда война подошла к концу, условия улучшились, и всеобщая амнистия была объявлена сразу после смерти Сталина для тех заключенных, чей срок составлял менее пяти лет. К сожалению, только обычные преступники получали столь легкий приговор.
При Хрущеве политических заключенных освободили и «реабилитировали», что означало признание правительством их полной невиновности.
Несколько советских книг о Колыме появились еще до Горбачева. Одной из них была опубликованная в 1959 г. книга Виктора Урина «По колымской трассе — к полюсу холода». Книга напоминала записную книжку путешественника с дорожными впечатлениями, в ней было немало фотографий, среди них — женщин в купальных костюмах, и все это напоминало ранние издания журнала «National Geographic». Урин разнообразил дорожные описания своими стихами. Андрей Зимкин, в книге которого «У истоков Колымы» никак не упоминаются заключенные, был на Колыме с 1933 по 1961 гг. Не ясно, был ли он заключенным или гражданским рабочим в лагере.
История Варлама Шаламова, напротив, ясна. Сын священника, он присоединился к группе молодых троцкистов в 1927 г., будучи двадцатилетним студентом на факультете права в Московском университете. В 1929 г. был схвачен милицией в результате облавы, когда пришел забрать незаконно напечатанные материалы. Он отказался от дачи показаний на суде, был приговорен к трем годам каторжных работ и получил досрочное освобождение в 1932 г.; приговоры тогда были сравнительно мягкими.
К тому времени Шаламов уже начал писать и прозу, и поэзию, но лагерная жизнь станет темой, к которой он обратится позже. Разо- чарованный отсутствием поддержки друзей, которых тоже арестовали, Шаламов решил уйти от политики, но, наряду с миллионами других, попал в сеть государственного террора.
В 1937 г. Шаламов был вновь арестован и получил пять лет лагерных работ за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Вновь осужденный в 1943 г. за похвалу нобелевского лауреата Ивана Бунина и причисление его к классикам русской литературы, Шаламов должен был оставаться в лагерях до конца войны. Удивительно то, что новый приговор оказался своеобразным благословением. Обвинение в «антисоветской агитации» казалось незначительным по сравнению с прошлым обвинением в «троцкизме». До этого Шаламов содержался в настоящем лагере смерти, где при росте 180 см он дошел до веса 48 кг. После нового приговора Шаламов был переведен в лагерную больницу и смог восстановить свой вес. Добыча золота вновь истощила его, и он вернулся в больницу. После этого Шаламов был отправлен в лесозаготовительный лагерь, где заключенных не выполнивших трудовую норму, не кормили. Схваченный при попытке бегства, Шаламов был отправлен в штрафную зону, где зэков, если они не могли работать, сбрасывали со скалы или привязывали к лошадям, тащивших их до смерти. Благоприятный случай произошел, когда на работы привезли группу итальянских заключенных, заменив ими своих зэков. Врач заинтересовался Шаламовым и смог направить его на курсы фельдшеров — это был второй удачный поворот судьбы, который буквально спас Шаламову жизнь.
В 1951 г. Шаламов был освобожден из лагеря, и в 1953 г. ему разрешили покинуть Магадан — без права проживания в больших городах. После окончательного освобождения Шаламов начинает писать «Колымские рассказы». 18 июля 1956 г. он был официально «реабилитирован» советским правительством, получил разрешение вернуться в Москву, где работал журналистом, и в 1961 г. начал публиковать свои стихи. Всего он опубликовал пять небольших сборников. Стихи Шаламова глубоко связаны с его колымским опытом — обстоятельством, которое не могло быть названо в самих сборниках. Но истинный талант Шаламова проявился в прозе, а поэзия не принесла ему признания, на которое он надеялся.
Рукопись «Колымских рассказов» была привезена в США в 1966 г. профессором Принстонского университета Кларенсом Брауном. С 1970 по 1976 гг. Роман Гуль, редактор нью–йоркского русскоязычного эмигрантского ежеквартального издания «Новый журнал», публиковал почти во всех выпусках один–два рассказа из колымского сборника. Другие появлялись в эмигрантском журнале «Грани», издававшемся во Франкфурте–на–Майне. Полное русскоязычное собрание появилось только в 1978 г. в издательстве «Overseas Publications Interchange» в Лондоне. Чтобы уберечь Шаламова от преследований, редакторы всегда отмечали, что рассказы были опубликованы без знания и согласия автора.
Хотя Шаламов фактически согласился на публикацию, он был очень недоволен тем, что Гуль редактировал его рассказы и не опу- бликовал сборник целиком. На страницах «Литературной газеты» Шаламов опубликовал заявление о том, что проблематика «Колымских рассказов» перестала быть значимой после знаменитой речи Хрущева о десталинизации на XX съезде партии, что он никогда не посылал рукописей для публикации за границу и всегда был честным советским гражданином. Он выражал протест против всех, кто ранее участвовал в публикации рассказов на Западе, настолько поразив своих бывших поклонников, что некоторые буквально убрали портрет Шаламова из своих домов. Но даже предав[12] «Колымские рассказы» — свое главное достижение, Шаламов продолжал их писать.
Рассказы Шаламова написаны в чеховской традиции, но изображают гораздо более жестокую эпоху. Короткий сюжет посвящается одному случаю; объективное, беспристрастное повествование контрастирует с ужасом происходящего и неожиданностью концовки. В то время как Чехова сравнивали с Толстым, Шаламова — с Александром Солженицыным. Параллели здесь не ограничиваются рамками «краткости против размаха». Чехов, писатель, уважавший права читателя в художественном процессе, сознательно избегал заканчивать выводами для своей аудитории. Толстой, с другой стороны (как позднее и Солженицын), постоянно наставлял читателей.
По признанию Солженицына, он в своих произведениях редко касался Колымы. Он просил Шаламова стать соавтором книги «Архипелаг ГУЛАГ», но Шаламов, уже старый и больной, отказался[13]. Тем не менее Солженицын писал: «Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт».
Британский славист Джеффри Хоскинг хорошо обобщил различия между Шаламовым и Солженицыным:
Как и «Архипелаг ГУЛАГ» ... эта книга является хроникой и обвинением лагерной жизни. Тем не менее, любой, кто познакомится с этой книгой, уже прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», будет, вероятно, очень удивлен. Как минимум внешне, произведение Шаламова отличается от произведения Солженицына, насколько это можно себе представить. Там, где Солженицын создает единую широкую панораму, свободную и расширяющуюся, Шаламов выбирает наиболее лаконичную из литературных форм — рассказ и выписывает его сознательно и бережно, так, что общая структура напоминает мозаику, созданную из крошечных кусочков. Там, где Солженицын пишет с гневом, сарказмом и горечью, Шаламов выбирает нарочито сухой и нейтральный тон. Там, где Солженицын погружается в судьбы своих персонажей, излагая их истории с разных субъективных точек зрения, Шаламов четко контролирует повествование, уводя, как правило, от единой точки зрения к полной объективности. Там, где Солженицын неистово моралистичен и проповедует искупление через страдание, Шаламов довольствуется спокойными афоризмами и утверждает, что настоящее страдание, которое Колыма принесла своим заключенным, может лишь деморализовать и сломить дух.
Центральной темой в любой дискуссии о творчестве Шаламова является проблема жанра. Перед нами литературная форма, которая стремится преодолеть разрыв между фактом и вымыслом — что-то вроде исторического романа. Рассказы Шаламова представляют собой слияние искусства и жизни, и невозможно отделить эстетическую оценку от исторической. Хотя рассказы не должны восприниматься как точные, основанные на фактах отчеты, важно понимать, что подавляющее большинство из них имеет автобиографическую основу.
В рассказе «Первый зуб» Шаламов описывает, как его избили, когда он отбывал первый срок, за защиту члена религиозной секты; ему выбили зуб и заставили раздетым стоять на морозе. «Заговор юристов» показывает то, что должно было стать его собственным приговором; спасла его кровавая встряска среди политического руководства. В «Шоковой терапии» мы видим попытку Мерзлякова симулировать паралич — случай, который Шаламов наблюдал лично. В рассказе «По лендлизу» — тела, которые выкапывал из земли американский бульдозер. Рассказ «Сгущенное молоко» описывает, как другой заключенный пытался склонить Шаламова к попытке бегства, чтобы затем предать его. Переписка с так называемым Флемингом из рассказа «Букинист» — часть личного архива Шаламова. «Поезд» описывает попытку Шаламова вернуться домой. «Кант», «Плотни- ки», «Сухим пайком», «Сентенция», «Тишина», «На представку», «Кусок мяса», «Заклинатель змей», «Начальник политуправления», «Детские картинки», «Магия» и «Эсперанто» — все взято из личного опыта Шаламова; «Последний бой майора Пугачева», с другой стороны, взят не из собственной жизни, но частично основан на исторических событиях.
В конце 1970-х здоровье Шаламова начинает ухудшаться. В 1979 г. Литературный фонд (отделение Союза писателей, которое занималось вопросами проживания, пенсиями и т.п.) определил его в дом престарелых, где Шаламов лишился зрения и слуха. Не ясно, в какой степени он мог воспринимать происходящее вокруг.
17 января 1982 г. я выступал с лекцией о жизни и творчестве Шаламова для вашингтонского отделения русского Литературного фонда. Это был самый холодный день в истории города — как будто Колыма пришла в Вашингтон, — и только горстка преданных поклонников не испугалась непогоды. Мы тогда не знали, что Шаламов умер в тот самый день.
Когда я узнал об этом, я позвонил в Москву в Союз писателей СССР, но там отказались сообщать какую–либо информацию кроме самого факта: Шаламов умер и был похоронен. Позже я получил фотографии с похорон и узнал, что за два дня до этого он был переведен из одного дома престарелых в другой и не выдержал переезда.
В конце осени 1987 г. я встретился с Сергеем Залыгиным, главным редактором самого известного русского журнала «Новый мир». Залыгин с оптимизмом говорил о реформах в СССР. Я возразил, что «Колымские рассказы» все еще не могут быть опубликованы. Он казался искренне заинтригованным моим замечанием и обещал уделить пристальное внимание этому вопросу; не прошло и года — он включил в журнал выборку из «Колымских рассказов».
В 1989 г., впервые за 16 лет, я получил визу в СССР. Однажды в одном из московских подземных переходов я увидел длинную очередь. Из-за дефицита потребительских товаров очереди тогда были обычным явлением, и я собирался было пройти мимо, но вдруг заметил, что продавали не апельсины и не шампуни... а «Колымские рассказы». Мужчина, стоявший в начале очереди, купил три экземпляра. Женщина за ним взяла шесть.
Я хочу выразить глубокую благодарность Абрахаму Брумбергу, Диане Глэд, Леонарду Мейерсу, Карен МакДермотт, Синтии Розенбергер, Эмилии Толл и Жозефине Вулл за их помощь в подготовке этой книги.
Я особенно обязан талантливой Сюзан Эш за ее многочисленные предложения по поводу стиля.
В апреле 1990 г. Ирина Сиротинская, наследница Шаламова, приехала в Вашингтон и поделилась со мной многими автобиографическими сведениями, здесь представленными.
Работа над книгой оказалась возможной благодаря поддержке Фонда Гуггенхайма и независимого федерального агентства Национальный фонд гуманитарных наук.
Перевод Артемия Попова под редакцией Людмилы Егоровой. Перевод авторизован Ларисой Глэд.
Источник: Glad, John. Foreword / John Glad // Shalamov, V. Kolyma Tales / Varlam Shalamov ; trans. by John Glad. — London : Penguin Books, 1994. — P. IX–XIX.
===================================
Предисловие Д. Рейфилда к «Колымским рассказам» (2018)
Варлам Шаламов (1907–1982) был одним из немногих, переживших пятнадцать лет страшнейшего сталинского ГУЛАГа. Он отдал шесть лет[14] рабскому труду на золотых приисках Колымы, самого холодного и негостеприимного места на земле, прежде чем стал фельдшером в исправительно–трудовом лагере, где условия его жизни чуть улучшились. Несколько прозаических произведений и стихотворений были написаны им до заключения, но семь томов его прозы, поэзии и драмы относятся к периоду с 1953 г. (после смерти Сталина) до конца 1970–х, когда пошли на спад физические и умственные способности писателя.
В двух томах собраны и переведены шесть книг рассказов — по три книги в каждом томе: большинство рассказов — о колымском периоде, несколько — о раннем периоде с 1929 по 1931 гг. «исправительных работ» в лагерях на северном Урале, пара рассказов — о воспоминаниях юности в Вологде. Грань между автобиографией и беллетристикой зыбка: фактически Шаламов был участником или свидетелем всего описанного в рассказах. В его произведениях много подлинных имен заключенных и их притеснителей. Сам он появляется просто как «я» или «Шаламов», иногда под псевдонимами, такими как Андреев или Крист. Таким образом, читая эти рассказы, мы знакомимся с первыми пятьюдесятью годами его жизни.
Варлам Шаламов родился в Вологде, северном городе, бывшем местом политических ссылок со времен средневековья. В детстве Шаламов[15] вполне мог пересечься со своим заклятым врагом Иосифом Сталиным, регулярно (в 1911–1912 гг.) совершавшем прогулки из своей вологодской квартиры в главную городскую библиотеку. Шаламов, сын священника, был пропитан религиозной образностью и языком богослужения (как и Антон Чехов), но с раннего возраста отвергал всякую веру. Он унаследовал от отца (выдающегося человека, бывшего миссионером на Алеутских островах, симпатизировавшего политическому либерализму, проповедовавшего терпимость к другим религиям, но угнетавшего свою семью) непримиримое упрямство и противодействие власти. Отец Шаламова, отказавшись от простой операции, полностью потерял зрение. Он не позволил сыну сделать ринопластику, из–за чего тот потерял обоняние, и, возможно, это способствовало развитию болезни Меньера, преследовавшей Шаламова в старости.
Вологда была местом чудовищных зверств во время Гражданской войны в России, особенно в 1918 г., когда психически неуравновешенный Михаил Кедров расстреливал гражданских заложников[16], в том числе учителя химии Шаламова. Тем не менее, Шаламов поддерживал революцию, особенно троцкистские фракции, даже несмотря на то, что коммунисты лишали его как сына священника возможности получить высшее образование. Родители писателя, изгнанные с церковного подворья, жили в крайней бедности (см. рассказ «Крест»), и случайные заработки Шаламова были слишком малы, чтобы облегчить положение. Работая на кожевенном заводе, он параллельно получал высокие отметки по математике и физике, что позволило ему, в конце концов, быть зачисленным в Московский университет для изучения советского права, но однокурсник обвинил Шаламова в «сокрытии социального происхождения», и тот был исключен. Затем он зарабатывал на жизнь журналистикой и впервые был арестован за участие в студенческом движении, выдвигавшем требование (как и многие троцкисты) публикации «завещания Ленина», документа, в котором Сталин был назван слишком грубым и властолюбивым, чтобы быть назначенным на пост генерального секретаря партии.
Шаламов провел три года на строительстве химкомбината в условиях, которые могли показаться терпимыми только по сравнению с Колымой. В 1931 г. он был освобожден против воли ОГПУ, как тогда называлась тайная полиция, но смог жить и работать в Москве без притеснений. В 1934 г. он женился на Галине Гудзь. В 1935 г. родилась дочь Елена. Брат Галины Борис Гудзь, агент ОГПУ, пришел в ужас от этой связи. Он настаивал на том, чтобы Шаламов написал отречение от троцкисткого прошлого в тайную полицию — НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). Результат оказался плачевным: Шаламов был арестован и приговорен к первоначальному пятилетнему сроку заключения на Колыму за контрреволюционную троцкистскую деятельность, как раз в то время, когда «Большой террор» контролировал, чтобы большинство «троцкистов» были расстреляны. (Семья Гудзь не избежала репрессий: жена и дочь Шаламова были сосланы в Туркменистан, Борис Гудзь был уволен из тайной полиции и стал водителем автобуса, а его старшая сестра Александра тоже была репрессирована.)
В прозе Шаламов избегал каких–либо упоминаний о своих семейных проблемах. Колымские воспоминания и чудо его выживания наглядно запечатлены в рассказах. Биографию Шаламова после освобождения и «реабилитации» (признания властями его невиновности и выплаты двухмесячного жалованья) приходится восстанавливать по записям разговоров и немногочисленным сохранившимся письмам. Вскоре его брак распался. Дочь, выросшая убежденной сталинисткой, знать о нем не хотела, предпочитая считать его умершим или преступником. Через два года Шаламов женился на Ольге Неклюдовой. Брак просуществовал до 1966 г., но не был счастливым. Шаламов, как и многие бывшие узники ГУЛАГа, придерживался принципа как можно меньше говорить и не общаться в присутствии третьего лица, которое могло быть осведомителем. Как и его отец, он был сторонником патриархального взгляда на женщин[17].
Шаламов поначалу возлагал большие надежды на литературную карьеру. Борис Пастернак очень хвалил его поэтический талант, и Александр Солженицын своим произведением «Один день Ивана Денисовича» показал, что писать о лагерях возможно. Но Пастернак, преследуемый советской властью за публикацию за границей романа «Доктор Живаго», умер в 1960 г., и стало ясно, что Солженицына могли публиковать (и то всего несколько лет) только потому, что он завоевал расположение Никиты Хрущева, лидера партии того времени, и Александра Твардовского, редактора влиятельного журнала «Новый мир». Первоначальное преклонение[18] Шаламова перед Солженицыным было встречено дружеским откликом, даже приглашением участвовать в работе над произведением «Архипелаг ГУЛАГ». Но, как случалось почти со всеми знакомствами Шаламова, отношения быстро испортились: Шаламов явно не одобрял приверженности Солженицына к некоторым христианским идеалам и ценностям XIX века и этическим нормам советского общества, в частности, к вере в искупительную силу физического труда. В то время как Солженицын перешел от рассказов к огромным романам, Шаламов не одобрял их как усложненные структуры, искажающие материал. (Его мемуары об исправительных работах на Урале называются «Вишера: антироман».) Шаламов дистанцировался от других выживших в ГУЛАГе, таких как Евгения Гинзбург, обвиняя их в излишнем снисхождении к преступникам, причинившим им страдания. Шаламов изначально был близок с Надеждой Мандельштам, вдовой Осипа Мандельштама (он посвятил два своих лучших рассказа ей и поэту), но их разобщила ее роль «предводительницы»[19], окруженной поклонниками и диссидентами.
Несмотря на эту изоляцию и пристальное внимание КГБ, Шаламову удалось издать четыре[20] книги стихотворений. В то время как его поэзия, сильно напоминавшая по приемам и тематике символистов дореволюционной России, не вызывала официального антагонизма, публикация его рассказов в СССР оказалась невозможной, за исключением одного единственного — наименее скандального рассказа «Стланик», изданного в 1965 г. Однако даже из–за него редакция журнала «Сельская молодежь» была распущена. В 1968 г. сначала отдельные рассказы, а затем и вся первая книга «Колымские рассказы» просочилась на Запад; при участии Шаламова или против его воли — трудно сказать. Произведения были опубликованы сначала в эмигрантских русских журналах, а затем на немецком и французском языках под фамилией Шаланов. Шаламов выражал протест в частном порядке (хотя просил экземпляры и оплату), а затем, видимо, действуя по принуждению, — публично в официальной «Литературной газете». За осуждение «антисоветских» эмигрантских и западных издателей он был вознагражден поздним приемом в Союз писателей, без членства в котором ни один советский литератор не мог заработать себе на жизнь.
В конце 1960–х Шаламов подружился с Ириной Сиротинской, которая сдала на хранение его рукописи в Российский государственный архив литературы и искусства. Сиротинская подробно рассказала об отношениях, основанных на взаимной привязанности и уважении. Конечно, без вмешательства Сиротинской творчество Шаламова могла бы постигнуть та же участь уничтожения, что и других писателей–диссидентов. Более скептически настроенные друзья Шаламова, особенно те, которые были диссидентами и/или заключенными сомневались в этой дружбе: все государственные архивисты в СССР были подчинены КГБ, и передача произведений писателя в архив при его жизни могла рассматриваться и как конфискация, и как сохранение. Работая в советских архивах, я обнаружил, что были архивисты, которые несмотря на их «допуск к секретной информации», были искренне преданы литературе, доступ к которой они контролировали. Нет никаких сомнений, что Сиротинская сыграла главную роль, помогая Шаламову, как минимум, в издании его стихов.
В конце 1970–х Шаламов, бездомный и с нарастающими проблемами со здоровьем, отправился в дом для престарелых. Условия там были поистине ужасные — как ни странно, такие же, как в худших учреждениях ГУЛАГа. Друзья, в том числе внучка одного из заключенных профессоров, обучившего Шаламова фельдшерскому делу на Колыме, нашли его. Они получили возможность немного облегчить его состояние, но им мешало внимание КГБ и равнодушие «медицинского» персонала. К тому времени Сиротинская, считавшая, что ее отношения с Шаламовым должны быть подчинены интересам ее семьи, казалось, отдалилась от писателя. В январе 1982 г. психиатрическая комиссия диагностировала у Шаламова глухоту, нарушение координации движений и страх перед незнакомыми как деменцию, и его перевели — почти раздетым, в мороз — в «психоневрологический интернат», куда посетители практически не допускались. Через несколько дней он умер от воспаления легких. В своих мемуарах Сиротинская утверждает, что навещала его незадолго до смерти и он продиктовал ей текст нескольких стихотворений. Шаламов также написал завещание, в котором назвал ее своей на- следницей и посвятил ей два сборника неопубликованных рассказов.
Подлинность этих последних намерений оспаривалась диссидентским окружением Шаламова, в частности Сергеем Григорьянцем. Опять же, поскольку Шаламов не любил говорить в присутствии третьих лиц (старая лагерная привычка), никакие сообщения о его разговорах не могут быть подтверждены.
На том основании, что Шаламов, как сын священнослужителя, был крещен, друзья и представители советской литературы организовали похороны и погребение по церковному обряду.
***
После того, как идеология перестройки упрочилась в 1988–89 гг., Сиротинская подготовила рукописи Шаламова (у него был каллиграфический почерк[21], поэтому проблем с расшифровкой не возникало) и организовала их публикацию.Редактирования, однако, не проводилось, и читатели заметят, что в более поздних книгах темы, события, персонажи иногда повторяются, даже есть противоречия и сходства в именах разных героев. Тем не менее, неумолимая сила этих произведений, в которых автор отказывается смягчать или сглаживать что–либо, в том числе свои собственные заблуждения, и которые демонстрируют выдающуюся память (визуальную и вербальную), делает их уникальными свидетельствами ужасов ХХ века, будь они нацистскими или советскими. Несмотря на отдельные случаи проявления доброты, с которыми он сталкивался в ГУЛАГе, нет ни утешения, ни веры в Божий промысел или человечность. Только животные ведут себя великодушно: медведь и снегирь, отвлекавшие внимание охотника, чтобы их сородичи могли спастись; лайка, доверявшая заключенным и рычавшая на охранников; кошка, помогавшая пленнику ловить рыбу.
Помимо того, что рассказы Шаламова обладают художественной силой, они являются шокирующим свидетельством. Так, например, по американскому ленд–лизу с 1942 по 1945 гг. на Колыму посылались бульдозеры для массовых захоронений, грузовики для перевозки золотой руды, лопаты и кирки для каторжников, еда и одежда для охраны. Как выразился один из отбывавших срок с Шаламовым, Колыма была «Освенцимом без печей».
В каком–то смысле Шаламова можно было бы обвинить в сопричастности: он сам восхищается красными героями Гражданской войны, учинявшими столь же безжалостные акты жестокости, как и их сталинские преемники. «Золотая медаль» — один из самых длинных его рассказов, почти превозносящих социал–революционерку, террористку Надю Климову[22]. После всего пережитого Шаламов никогда не отрекался от революционеров–убийц, если те были преданы идеалам и готовы заплатить за них собственной жизнью. Хотя Шаламов заявлял, что никогда не займет должность, на которой будет сотрудничать с системой принудительного труда, став фельдшером, он, как рассказано в книге «Вечная мерзлота», берет на себя ответственность за самоубийство молодого человека, которого отправил обратно на каторжный труд в шахты, не разрешив мыть полы в лазарете. Шаламов утверждал, что ничему не научился на Колыме, кроме как катать груженую тачку. Но одно из тезисных сочинений, датиро- ванное 1961 г., говорит нам гораздо больше[23].
Только в 2013 г. в России появилось достаточно полное собрание сочинений Шаламова (в семи томах). За границей писатель получил наибольшую известность в Германии, где были опубликованы четыре из шести его книг, переведенных для этого и следующего тома. Первый заслуживающий доверия английский перевод подборки колымских рассказов вышел в 1980 г. — «Kolyma Tales» в переводе Джона Глэда. В 1994 г. к «Колымским рассказам» добавилось еще несколько рассказов из более поздних книг. Настоящий том и последующий за ним более чем в два раза увеличат число произведений Шаламова, доступных на английском языке. К сожалению, на английском до сих пор нет биографии Шаламова и исследований его творчества[24]. Тем, кто владеет немецким, понравится труд Вильфрида Ф. Шёллера «Жить или писать. Рассказчик Варлам Шаламов». (Переводчик дает отсылку: Wilfried F. Schoeller. Leben oder Schreiben: Der Erzähler Warmam Schalamow. Berlin: Matthes & Seitz, 2013).
С одной стороны, переводить Шаламова не трудно[25]. Он избегает стилистических эффектов: большинство рассказов написаны наме- ренно «грубо», с минимумом метафор и без боязни повторить одно и то же прилагательное. Однако один аспект должен поставить пере- водчика в тупик — это язык, феня или блатной язык, язык бандитов, потомственных и профессиональных воров и убийц, которые делали жизнь политических заключенных адской. Феня — диалект, который опирается на одесский идиш, на различные славянские и даже тюркские языки, и он не менялся на протяжении двухсот лет. Однако криминальный жаргон в английском языке изменяется каждое десятилетие и различается в каждом городе. Только в Лондоне XVIII в. существовал устойчивый криминальный язык, и лишь немногие современные специалисты могут его понять. По этой причине в английской версии шаламовские уголовники разговаривают, как обычные люди, только с использованием нескольких хорошо известных жаргонных выражений. Интересно, что Шаламов за время пребывания на Колыме написал только одно прозаическое произведение: словарь блатных слов из 600 терминов, предназначенный для Подосенова, заключенного инженера, который заведовал химической лабораторией (см. рассказ «Галина Павловна Зыбалова» в следующем томе). Подосенова сбил проезжавший грузовик, и рукопись словаря была утеряна — в результате чего толкование тюремной лексики не стало проще, несмотря на распространение в России словарей криминального жаргона.
Я безмерно благодарен своей жене, Анне Пилкингтон, за прочтение первоначального варианта перевода и устранение ошибок, недочетов, упущений. Задача была для нее особенно трудной, учитывая, что ее отец, Дмитрий Витковский, как и Шаламов, полжизни провел в ГУЛАГе. Я также хочу поблагодарить Сьюзен Барба за ее тактичное и тщательное редактирование и Наталью Ефимову из Российского государственного архива литературы и искусства за сверку рукописей Шаламова, когда я (ошибочно) заподозрил опечатку в опубликованном тексте.
Несмотря на утверждение Варлама Шаламова в последнем пункте «Что я видел и понял в лагере»[26], он прекрасно знал свой материал и писал так, чтобы каждый мог его понять.
Перевод Сергея Кузнецова. Под редакцией Л. Егоровой.
Источник: Rayfield, D. Introduction / Donald Rayfireld // Shalamov, V. Kolyma Stories / Varlam Shalamov ; trans. and with an introd. by Donald Rayfield. V. 1. — New York : New York Review Books, 2018. — P. IX–XIX.
Впервые предисловия Дж. Глэда и Д. Рейфилда опубликованы в Вестнике Вологодского государственного университета, 2022, No 2. С.36–44.
Валерий Есипов
Скрипит старая мельница…
(Послесловие к двум предисловиям)
Рецепция Шаламова и его «Колымских рассказов» на Западе — очень большая и сложная тема, почти не изученная, и потому перевод и публикация двух предисловий — Д. Глэда и Д. Рейфилда — разделенных более чем двумя десятилетиями (1994, 2018 гг.), представляется весьма полезным. Разумеется, предисловие к массовому изданию — это не научная статья, но оно тоже требует объективности: ведь излагаемые в нем сведения, как правило, впервые открывают читателю (в данном случае зарубежному, англоязычному) автора и его произведение. И от того, как, в каком ракурсе или «соусе», будет преподнесен этот материал, зависит оценка значимости писателя и смысла его творчества. Поскольку судьба и творчество Шаламова связаны с «лагерной темой», необычайно острой и трагичной (и при этом неизбежно заставляющей обращаться к политике и истории), на автора предисловия налагается особая ответственность и особая аккуратность. Надо всегда помнить, что сам Шаламов решительно восставал против политических спекуляций вокруг «Колымских рассказов», развернувшихся на Западе еще при его жизни (о чем он писал в известном письме в «Литературную газету» в феврале 1972 г.[27]).
В этом смысле перевод текстов Д. Глэда и Д. Рейфилда полезен не только для решения определенных литературоведческих проблем, но и для понимания особенностей западного общественного сознания или картины мира, априори имеющей существенные отличия от российской «матрицы». Сразу замечу, что даже не очень подготовленный отечественный читатель, бегло пробежавшись по текстам предисловий, обнаружит в них немало того, что противоречит сложившимся у него представлениям и вызовет недоумение и протест. Еще больше разного рода «нестыковок», предвзятых мифов и штампов (граничащих подчас с абсурдом), увидит профессионал, непосредственно занимающийся биографией и творчеством Шаламова, а также историей сталинской лагерной системы.
Разумеется, не хотелось бы каким-либо образом педалировать обострившуюся актуальность проблемы специфики «англосаксонского менталитета» в связи последними мировыми политическими событиями, тем более, что оба автора предисловий — и Д. Глэд, и Д. Рэйфилд — люди не политики, а культуры, при этом в значительной мере интегрированные в русскую культуру. Это касается прежде всего Д. Глэда, личность и деятельность которого я знаю неплохо, т.к. не раз встречался с ним и знаком со многими его работами. Джон был не только прекрасным переводчиком и глубоким знатоком русской литературы, в том числе эмигрантской (о чем говорит его книга «Беседы в изгнании», принесшая ему широкую известность у нас в стране[28]), но человеком, понимавшим и принимавшим Россию. Безусловно, этому способствовало то, что он был женат на русской женщине — Ларисе Глэд, урожденной Романовой, родом из Саратова, с ней он познакомился во время стажировки в МГУ в 1970-е годы. Очень символичный факт: по завещанию Д. Глэда (он умер в 2015 г.) часть его праха была развеяна в Москве на Воробьевых горах... Человек блестящего ума и эрудиции, Д. Глэд обладал оригинальной философией, сильно расходившейся с общепринятыми в США взглядами, и имел все основания называть себя «американским диссидентом». Во время своего последнего приезда в Россию в 2012 г. он прочел в Москве несколько публичных лекций и дал несколько интервью, в которых с полной откровенностью рассказал об эволюции своих воззрений на роль США в мировой политике. Наиболее инте- ресна в этом плане его беседа с редактором сайта «Устная история» Д. Споровым, ссылка на которую есть и в статье о Д. Глэде в Википедии –http://oralhistory.ru/talks/orh-1464 (там есть и печатная версия). Весьма показательно, что в этом интервью он — бывший некоторое время, в начале 1980-х годов, директором Института Кеннана (цен- тра советологии США) — настоятельно рекомендовал российским читателям книгу британской журналистки Ф. Сондерс «Кто заплатил дудочнику: ЦРУ и культурный фронт холодной войны», изданную в 1999 г. в Лондоне[29]. Эта книга, основанная на рассекреченных документах главной разведывательной службы США периода 1947-1967 гг., дает яркую картину закулисной борьбы против нашей страны, в которую были вовлечены и многие западные интеллектуалы (щедро оплачиваемые). Д. Глэд, в свою очередь, поведал немало тайн «культурного фронта холодной войны» из периода и до, и после 1967 г. Например, говоря об известном эмигрантском издателе Б. Филиппове (вместе с Г. Струве первым выпустившим не печатавшиеся в СССР произведения О. Мандельштама, Н. Клюева, А.Ахматовой и других), он подчеркивал, что его деятельность также на- правлялась и финансировалась спецслужбами. Это был необычайно выигрышный метод «мягкой силы» — печатать запрещенное в СССР, демонстрируя свою «свободу» и «культурное превосходство» (хотя качество изданий оставляло желать много лучшего, оно компенсировалось пропагандистским эффектом). Той же цели служили и пиратские издания «Колымских рассказов» Шаламова — как не раз заявлял Д. Глэд, известное издание на русском языке, выпущенное в 1978 г. в Лондоне издательством Overseas Publications Interchange, финансировалось ЦРУ[30].
Сам же Д. Глэд, восхищенный талантом Шаламова-писателя, предпринял первый перевод «Колымских рассказов» на английский язык в конце 1970-х гг. на свой страх и риск, без всякой помощи — и себе в убыток, о чем он говорил неоднократно[31]. Чтобы легитимизировать свой перевод, он искал контактов с самим Шаламовым, но тот был уже тяжело болен и находился в доме инвалидов (впоследствии Д. Глэд урегулирован вопрос авторских прав с наследницей Шаламова И.П. Сиротинской). Его роль как первооткрывателя творчества Шаламова для англоязычного читателя, безусловно, является исторической.
Свой восторг художественной стороной «Колымских рассказов» Д. Глэд высказывал и в предисловии к изданию 1994 г. Его суждение о том, что «”Колымские рассказы” это больше, чем история», и особенно его парадоксальная мысль: «Если бы лагеря никогда не существовали, эта книга, став лишь плодом воображения, все равно была бы одной из великих книг мировой литературы, только более впечатляющей» (он ее повторял и позже[32]), — подчеркивают общечеловеческое содержание суровой прозы Шаламова и важность в ней эстетического начала.
Тем не менее Д. Глэд прекрасно понимал, что чисто эстетический подход к «Колымским рассказам» невозможен и они могут быть по-настоящему поняты лишь в историческом контексте. К сожалению, как видно из предисловия, он довольно слабо разбирался в истории сталинских лагерей, следуя распространенным в то время, в 1990-е годы, мифам, почерпнутым из случайных и часто сомнительных источников, которые он находил, вероятно, по каталогу Библиотеки Конгресса США (где обнаружил даже малоизвестные книжки В.Урина и А.Зимкина).
Не станем обсуждать некоторые явные нелепости, уже отмеченные редактором перевода. Стоит подчеркнуть, что абсолютно не соответствуют действительности приводимые Д. Глэдом данные, со ссылкой на польского историка К. Заморского и британского Р. Конквеста, о трех миллионах людей, погибших на Колыме. Работы Р. Конквеста в свое время были весьма популярны на Западе, а в 1990-е годы, в период «гласности», их стали переводить и в России. Но его книгу «Колыма. Арктические лагеря смерти», изданную в 1978 г. в США (на нее, очевидно, и ссылается Д. Глэд), так и не перевели — ввиду явно фантастических сведений, содержащихся в ней, к которым относится и цифра погибших на Колыме[33].
Разумеется, Д. Глэд не мог знать реальных данных как об общем количестве заключенных, находившихся в колымских лагерях, так и о количестве погибших там, ибо советские архивы (включая архив УВД Магаданской области) в то время еще только начали открываться, а Интернет находился в зачаточном состоянии. Тем не менее в магаданской печати уже тогда появились самые достоверные, основанные на первичных документах, сведения, опровергающие разнообразные домыслы: всего за период 1932-1953 гг. на Колыму было завезено 876 тысяч заключенных, из них погибло около 130 тысяч (расстреляно около 8 тысяч, большинство остальных погибло от невыносимого труда, голода и болезней, причем, основные жертвы приходятся на период после 1937 г.)[34]. Эти цифры и сегодня остаются базовыми для понимания реальностей Колымы и того, как эти реальности отражены в рассказах Шаламова.
Неудивительно, что Д. Глэд постоянно говорит о «миллионах» жертв репрессий в Советском Союзе. Подобная тональность, с установкой на «разоблачение советского (коммунистического) режима», была характерна для периода холодной войны и соответствовала стереотипам западного сознания. Но парадокс (поистине абсурдистский) состоит в том, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов эти стереотипы начали становиться составной частью позднесоветского и российского сознания. Одна из ведущих ролей в этом отношении, как известно, принадлежала А. Солженицыну и его широко растиражированной книге «Архипелаг ГУЛАГ»[35]. Следуя Солженицыну, а также Р. Конквесту и другим авторам, в эти годы многие публицисты и историки, выполняя социальный заказ наших «реформаторов», постоянно твердили о «миллионах» и даже «десятках миллионов», якобы уничтоженных «советским режимом». Весьма красноречива в этом смысле ссылка у Глэда на Д. Волкогонова, генерала, провозглашенного при М. Горбачеве и Б. Ельцине едва ли не главным историографом страны и не раз посещавшего в эти годы США. К сожалению, у нас нет доступа к стенограмме его лекции в Пентагоне в 1990 г., на которую ссылается Глэд, но тот факт, что бывший зам. начальника Главного политического управления Советской Армии, «просвещал» американский генералитет по поводу «преступлений» своей страны, говорит о многом[36].
Так что к Д. Глэду в данном случае можно отнестись с известным снисхождением. Понятно, что и в рассказах Шаламова он пытался заострить внимание на наиболее страшных деталях лагерной жизни, но не всегда сохранял корректность: например, он утверждал, что уголовники «легко управляли политическими заключенными, хотя те превосходили их численностью» (на самом деле на Колыме преобладали уголовники и бытовики, а численность политических не превышала 20 процентов; примерно так же было и в целом в системе ГУЛАГа). В предисловии немало риторических фраз: «...Эпидемии тифа погубили многих... Тех, кто выжил, отправляли на корабле с «материка» в пересыльные лагеря, служившие рынками рабов для горных работ на Колыме...В морозную погоду заключенных можно было легко контролировать с помощью пожарных насосов» и т.д. (Видно, что в последнем случае Глэд опирался на рассказ «Прокуратор Иудеи», превратив частный случай в типичный и повсеместный).
Нетрудно понять, что он стремился максимально адаптировать свое издание для малоискушенного англоязычного читателя. Это сказалось и в описании биографии Шаламова: в ней целый ряд моментов сильно упрощен, а иногда и искажен. Например, Глэд пишет, что в 1920-е годы Шаламов принадлежал к «группе молодых троцкистов», а в 1937 г. был осужден за «контрреволюционную троцки- стскую деятельность», оставляя эти факты без комментариев. Таким образом, у читателя вольно или невольно создавалось впечатление, будто Шаламов был сторонником идей Л.Троцкого, за что и пострадал. Весьма односторонне отражена у Глэда и история с письмом в «Литературную газету» 1972 г., а его утверждение, будто этим письмом Шаламов «предал свои рассказы» — вовсе уж несправедливо. Характерно, что в своем большом интервью Д. Глэду, данном в 1990 г. в Вашингтоне, И.П. Сиротинская на ту же реплику собеседника: «Значит, он предал свои рассказы?» — ответила: «Он на самом деле не отрекся от своих «Колымских рассказов». Он не такой человек, чтобы раскаиваться…»[37].
Обратимся теперь к предисловию Д. Рейфилда. Сам по себе факт выхода двухтомного издания «Колымских рассказов» Шаламова на английском не может не радовать. Остается лишь пожалеть, что между изданиями 1994 и 2018 годов прошло слишком много времени: почти двадцать пять лет читатели США и Великобритании были лишены возможности познакомиться с полным содержанием главного произведения писателя, признанного одним из классиков русской и мировой литературы ХХ века. Возможно, и этого издания не случилось бы, если бы не Фонд Михаила Прохорова, под эгидой которого (в рамках целевой программы «Переводы русской литературы», объявленной в 2013 г.) Рейфилд делал свою работу. Выбор переводчика в этом плане был обоснован. Многолетний профессор колледжа Лондонского университета известен как один из лучших знатоков русской литературы, особенно Чехова, чья стилистика, а также и фи- лософия отчасти близки Шаламову. Как можно полагать, при выборе учитывалось и то, что Рейфилд много занимался темой репрессий — он является автором исторического исследования «Сталин и его подручные» (причем, русский перевод 2008 г. этого почти 600-страничного труда Рейфилд сделал сам). Хотя успех другой, наиболее известной книги Д. Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» (русский перевод 2005 г.) имел отчасти скандальный характер (ввиду увлечения автора эротическими деталями биографии писателя), мы получили возможность убедиться, что британский славист любит и понимает Россию — именно чеховской поры, относясь, впрочем, к отдельным сторонам ее нравов и быта с нескрываемым скептицизмом. Поэтому было чрезвычайно любопытно узнать, как Рейфилд с его ироничным и подчас эпатажным складом ума воспринимает Шаламова — писателя, в высшей степени серьезного. Тем более, что за двадцать пять лет после первого перевода «Колымских рассказов» в мире, в том числе в России, появилось немало литературы о Шаламове, на которую можно опираться.
К сожалению, ожидания увидеть во взгляде британского слависта на Шаламова нечто новое и оригинальное не оправдались. Его краткий пересказ биографии автора «Колымских рассказов» на удивление сух и прагматичен, лишен той живости, какая присуща его другим работам. Возможно, на это повлиял долгий утомительный труд Д. Рейфилда над переводом рассказов, заставивший его погрузиться в невыносимо тяжелый мир лагерной жизни (ведь он и сам признался, что ему долго снились бараки и колючая проволока...). Но, вероятно, и сама личность Шаламова не очень близка ему по духу — и это понятно, т.к. любой литературовед и переводчик не всегда выбирает себе предмет по сердечной склонности. Как бы то ни было, мы не можем пройти мимо целого ряда весьма спорных утверждений Д. Рейфилда, а также и мимо фактологических «блох», лишь часть из которых отмечена Л. Егоровой, редактором перевода предисловий.
Наверное, следует начать с пресловутого «троцкизма» Шаламова (упомянутого и у Д. Глэда) — о нем британский профессор говорит несколько раз в небольшом тексте — употребляя этот термин то в ка- вычках, то без кавычек, но не делая каких-либо пояснений. Последнее тем более удивительно, что Д. Рейфилд прекрасно знает специ- фику применения этого термина в качестве политического ярлыка в сталинскую эпоху. Зачем же создавать двусмысленности и вводить в заблуждение читателей, у которых слово «троцкизм», как правило, имеет отнюдь не позитивные коннотации?[38] (Между прочим, для английского читателя было бы особенно интересно обозначить раз- ницу между «троцкизмом» Шаламова и реальным троцкизмом, который исповедовал в свое время Дж. Оруэлл; вообще, эти писатели в свой поздний период во многом близки, но Рейфилд, увы, обошел эту перспективную тему). В итоге хочешь — не хочешь, а подумаешь об определенного рода политических пристрастиях автора к Шаламову. Или тут действуют специфические свойства консервативного британского менталитета?
Эти мысли невольно приходит в голову, когда читаешь моралистические сентенции об отношении Шаламова к деятелям русского освободительного движения, которых Рейфилд называет не иначе, как «революционерами-убийцами» и от которых, по его выражению, Шаламов «никогда не отрекался»[39]. Право, эта тирада звучит как политическое обвинение писателю — очень похожее на то, что в свое время сделал А. Солженицын, поставив Шаламову в вину «сочувствие» и эсерам, и Октябрьской революции, и 20-м годам (и заодно — «поддержку оппозиции Троцкого»)[40]. Можно догадываться, что в своем взгляде на Шаламова Рейфилд во многом опирался на Солженицына, а если нет, то вывод несколько иной: выходит, что русский консерватизм, исповедовавшийся автором «Красного колеса», очень близок консерватизму британскому — по крайней мере, в отношении к революции 1917 г. Это, в общем, неудивительно, но мы имеем возможность уточнить позицию Д. Рейфилда: понимая «чеховскую» Россию и ностальгируя по ней, он испытывает большую настороженность и даже откровенную неприязнь по отношению к истории России ХХ века, ко всему ее советскому периоду, а не только к сталинскому. Здесь, пожалуй, и ключ к его восприятию Шаламова — холодноватому, без какого-либо пиетета, со склонностью к упрощениям и с нежеланием понять, а тем более принять его как писателя с советской, а не с какой-либо иной матрицей сознания ( недаром Рейфилд заявляет, что письмо в «Литературную газету» 1972 г. было написано «видимо, по принуждению»).
В целом ряде случаев он обходится с биографией писателя слишком уж бесцеремонно, опираясь не на документы и свидетельства близких ему людей (прежде всего И.П. Сиротинской), а на различные слухи и домыслы, исходящие от чуждого Шаламову диссидентского круга. Причем, пренебрежение мнением Сиротинской, а также ее заслугами в сохранении наследия Шаламова, выражено весьма демонстративно. Этой темы уже приходилось касаться два года назад, когда удалось познакомиться с текстом предисловия по машинному переводу[41]. Сейчас же могу поделиться еще одним интересным наблюдением: при внимательном чтении аутентичного перевода обнаруживается, что одним из главных источников пересказа биографии Шаламова Д. Рейфилду послужила моя книга в серии ЖЗЛ, однако почтенный профессор почему-то решил обойтись без ссылок на нее[42]. Что ж, в жанре предисловия (а не научной статьи) это, вероятно, допустимо. Но меня ( полагаю, и многих наших читателей, а также историков) сильно удивила другая фраза Рейфилда: «Вологда была местом чудовищных жертв во время Гражданской войны»... Известно, что Вологда находилась в достаточном отдалении от фронтов, и «чудовищных жертв» здесь не могло быть по определению. Очевидно, Рейфилд имеет в виду эксцессы периода 1918 г., связанные с деятельностью М. С. Кедрова, о которых пишет Шаламов в «Четвертой Вологде». Но они не имели массового, а тем более «чудовищного» характера, что вполне объяснено и в моей книге. Отчего же у Рейфилда такая натяжка? Может быть, он хотел пополемизировать со мной? Ведь в соответствующем эпизоде я напоминаю об участии англоамериканцев в интервенции на Севере России и о тех действительно чудовищных зверствах, которые творил тогда британский экспедиционный корпус в Архангельске, в частности, на острове Мудьюг, где был устроен смертоносный концлагерь.
Разумеется, обо этом неприятно вспоминать ни Рейфилду, ни современному англоязычному читателю. Как мы знаем, в Великобритании и США действует негласная конвенция: не ворошить темных сторон своей истории. А российскую ворошить, получается, — можно и нужно?!..
Эта установка (назовем ее инерцией стереотипов холодной войны) явственно ощущается во фрагментах предисловия, посвященных колымским лагерям. К счастью, штамп о «миллионах» погибших Рейфидом не затрагивается — он уже «не работает». Но скороговоркой пересказывая содержание «Колымских рассказов», автор видит их значение только в таких «шокирующих свидетельствах»: «Например, по американскому ленд-лизу с 1942 по 1945 гг. на Колыму посылались бульдозеры для массовых захоронений (неужели только для этого?! — В.Е.)... Как выразился один из отбывавших срок с Шаламовым, Колыма была “Освенцимом без печей”»... И, оказывается, весь этот куцый абзац — лишь для того, чтобы сделать «фундамен- тальный» вывод: «Неумолимая сила этих произведений... делает их уникальными свидетельствами ужасов ХХ века, будь они нацистски- ми или советскими» (курсив наш — В.Е.).
На кого рассчитан такой примитив? На добропорядочного обыва- теля, греющего ноги у камина и уже напичканного по уши мифами о тождестве советского и фашистского государств? Или на более-менее подготовленного читателя, который давно пережевал эту старую жвачку? Но факт остается фактом: Шаламова — как и при его жизни, пятьдесят лет назад — вновь пытаются эксплуатировать в политических целях, а многомерную художественно-философскую мозаику «Колымских рассказов» стремятся представить лишь как «свиде- тельство ужасов». Печальный случай, как говорится, тем более, что в лице Д.Рей- филда мы имеем опытного и тонкого литературоведа.
О том, что он остался глух к Шаламову-художнику, к его поэтике, ярче всего свидетельствует переводческий казус в новелле «По снегу» — замена в классической уже шаламовской метафоре «А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели» последних слов на лагерную бытовуху: «...ездят начальники, а не подчиненные»[43].
Приходится констатировать, что автор перевода и предисловия остался равнодушен и к личности Шаламова, ко всему ее богатству и многогранности. Очевидно, она не заинтересовала его так, как личность Чехова, и он не изучал ее с такой же тщательностью. Например, категорическое утверждение Рейфилда, что «подобно отцу, Шаламов был сторонником патриархального взгляда на женщину», — абсолютно беспочвенно. Как можно понять, этот вывод основан только на одном пункте из заметок писателя «Что я видел и понял в лагере» (1961): «Женщины не играли в моей жизни большой роли — лагерь тому виной». Замечу, что недавно мне довелось прочесть двухчасовую лекцию «Любовь в жизни Шаламова», где невольно вспомнился тезис Рейфилда о «патриархальности», и он был опровергнут массой противоположных фактов. Преставлять писателя неким аскетом-монахом так же односторонне и непродуктивно, как и воинственным атеистом (фраза Рейфилда о том, что Шаламов «с раннего возраста отвергал всякую веру», нуждалась бы в пояснениях).
Автору никак не удается хотя бы немного очеловечить образ писателя и раскрыть его главную черту — невероятную стойкость духа. Об этом в тексте ни слова. Зато есть фраза о том, что у Шаламова в конце жизни «пошли на спад умственные способности». Она явно неделикатна и некорректна: прекрасно известно, что даже в доме престарелых он диктовал стихи. Апофеозом пристрастности Рейфилда можно считать его слова: «В конце 1970-х Шаламов, бездомный и с нарастающими проблемами со здоровьем, отправился в дом для престарелых. Условия там были поистине ужасные — как ни странно, такие же, как в худших учреждениях ГУЛАГа...». Шаламов почему-то превращен в «бездомного» (хотя он имел благоустро- енную комнату в центре Москвы), а назойливое стремление автора найти образ ГУЛАГа (или старого лондонского Бедлама?) в доме пре- старелых Литфонда вовсе удручает. Могу свидетельствовать лично: мне довелось побывать в этом доме в 1989 году, и ничего близкого «худшим лагерным условиям» не заметил — это был типовой советский пансионат, с достаточным комфортом, хорошим питанием и очень доброжелательным персоналом. Единственное (что отличает учреждения подобного типа или хосписы, наверное, во всем мире) — специфический запах, но он вполне объясним состоянием старых, больных и немощных людей…
Сделаю резюме.
Вряд ли образ России (Советского Союза), заданный Д. Рейфилдом в предисловии, может вызвать сколь-либо теплые чувства у рядовых англоязычных читателей. Тем более в совокупности с содержанием двух томов «Колымских рассказов», поданных столь одномерно, как «ужасы». Волей-неволей подумаешь: а не выполнял ли изначально сам проект нового издания Шаламова (под благородной маркой «литературного просвещения») некий социальный заказ — подлить водички на старинную, скрипучую, но безостановочную, увы, мельницу русофобии? Но этот вопрос следует адресовать, пожалуй, скорее не Д. Рейфилду, а заказчикам издания. И ясный ответ на него может дать, наверное, только знакомство с отзывами на книгу Шаламова со стороны массового англоязычного читателя. Такой объективной картины рецепции мы и ждем.
Примечания
- 1. Вопрос о стиле Р. Гуля-прозаика (автора повести «Ледяной поход», автобиографии «Конь рыжий» и многих других произведений) в сопоставлении со стилем Шаламова заслуживает специального исследования. Оно интересно и в связи с тем, что оба писателя (в разной степени) испытали влияние прозы В. Ропшина (Б. Савинкова).
- 2. Обсуждением этих проблем я обязана моей коллеге — к.ф.н., доценту ВоГУ Елене Павловне Андреевой.
- 3. В сентябре 2013 года Яков Клоц выступил с докладом «Шаламов глазами русской эмиграции: “Колымские рассказы” в “Новом журнале”» на международной Шаламовской конференции в Праге [Клоц 2017] и затем представил более развернутую реконструкцию и интерпретацию истории первых публикаций Шаламова в статье «Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978)» в журнале «Russian Literature» [Клоц 2018].
- 4. Рассказ «Шерри-бренди» Гуль опубликовал два года спустя — в No 91 за 1968 год.
- 5. Сам Шаламов считал рассказ «Крест» «одним из лучших рассказов по композици- онной законченности, по сути, по выразительности» («О прозе», 1965) [Шаламов 2005: 156].
- 6. Здесь и далее перевод мой. — Л. Е.
- 7. К трем вышедшим в США в 1980, 1981 и 1994 гг. книгам Шаламова Джон Глэд написал разные предисловия. В данном сборнике представлен перевод предисловия 1994 г. Искренняя признательность Ларисе Глэд, подарившей книги и сделавшей перевод возможным. Здесь и далее примечания Л. Егоровой.
- 8. Освоение Колымы начинается в советское время, а приводимый факт из 1853 г. относится к Нерчинским рудникам в Забайкалье.
- 9. О цифрах, основанных на первичных документах, см.: Козлов А. В период «массового безумия» // Вечерний Магадан. — 1992. — 2 декабря. URL: https://shalamov.ru/ context/2/. См. также: Есипов В. Об историзме «Колымских рассказов». URL: https:// shalamov.ru/research/217/
- 10. Эдуард Петрович Берзин (1893–1938).
- 11. В оригинале: «coddling».
- 12. «But even having betrayed his own major achievement, Kolyma Tales, he continued to write them».
- 13. Отказался он в 1964 г. по другим причинам. (И впереди было еще 18 лет жизни.) См.: Есипов В. В. Шаламов и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. URL— https:// shalamov.ru/research/317/
- 14. Так в оригинале. Здесь и далее примечания Л. Егоровой.
- 15. В. Шаламову в то время 4 года.
- 16. «Vologda was the scene of appalling atrocities during the Russian Civil War, particularly in 1918, when the psychopath Mikhail Kedrov shot civilian hostages…»
- 17. Сохраняем структуру этого предложения в соответствии с оригиналом: «Shalamov, like many Gulag prisoners, stuck to the principal of speaking as little as possible, and never when a third person (who might be an informant) was present; in any case, like his father, he took a patriarchal view of women».
- 18. «Shalomov’s initial idolization…»
- 19. «…her role as queen bee» — роль пчелиной матки.
- 20. В действительности — 5 книг.
- 21. С течением лет почерк Шаламова становился все менее разборчивым.
- 22. В реальности и в рассказе Шаламова — не Надя, а Наталья — Наталья Сергеевна Климова.
- 23. Далее Д. Рейфилд приводит известный текст Шаламова «Что я видел и понял в лагере», местами переведенный не совсем точно. Это текст у него включает 45 пунктов в то время, как у писателя их 46. Очевидно, что переводчик пользовался не выверенным текстом издания Шаламова 2013 г., где была допущена опечатка — пропуск пункта 5: «Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу». В расхождениях можно убедиться, например, по публикации данного текста на сайте shalamov.ru. Если бы Д. Рейфилд в свое время обратился за уточнением к российским шаламоведам, этой и других досадных ошибок удалось бы избежать.— Прим. ред.
- 24. Исследований (принадлежащих Л.Токер, Е.Михайлик, М.Брюэру и другим авто- рам) достаточно много. Часть из них представлена в англоязычном разделе сайта shalamov.ru. В 2018 г. биографическая книга В. Есипова «Шаламов» была переведена и издана в США техасским издательством Human Side Press.— Прим. ред.
- 25. «translating Shalamov is straightforward».
- 26. «Что писатель должен быть иностранцем — в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал — он будет писать так, что его никто не поймет».
- 27. См. нашу публикацию о письме в ЛГ в настоящем сборнике.
- 28. Глэд Джон. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книга. 1991. Согласно «Электронной библиотеке диссертаций», только в период 2004-2010 гг. на эту книгу и другие работы Глэда ссылались в России в 144 кандидатских и докторских диссертациях. Кроме И. Бродского, В. Аксенова, С. Довлатова и других писателей третьей волны эмиграции Д. Глэд смог проинтервьюировать и некоторых писателей первой и второй волны, в том числе Р. Гуля и Б. Филиппова.
- 29. Frances Stonor Saunders. WHO PAID THE PIPER: CIA and the Cultural Cold War. Granta Books. London,1999. В 2013 г. эта книга была издана в России: Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны / Пер. с англ. под рук. Е. Логинова и А. Верченкова; редактор перевода В. Крашенинникова. — М.: Институт внешнеполитических исследований и инициатив, Кучково поле, 2013. (Серия «Реальная политика»).
- 30. Об этом Д. Глэд говорил и на презентации книги «Шаламов» (ЖЗЛ) в Москве в сентябре 2012 г. URL–https://shalamov.ru/events/47/. Сам Шаламов нисколько не сомневался, что еще с 1960-х годов к пиратским изданиям его рассказов были причастны западные разведслужбы.
- 31. Глэд Дж. Художественный перевод: теория и практика последнего запретного искусства (на материале «Колымских рассказов») // «Закон сопротивления распаду». Особенности прозы и поэзии В.Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Сборник научных трудов. Прага — Москва, 2017. С.319-335.
- 32. Ср. в еще более парадоксальной форме: «Если бы Советского Союза никогда не существовало и Варлам Тихонович придумал бы лагерный мир, как Борхес выдумывал свои миры, выдумка эта все-равно принадлежала бы к классическим произведениям мировой литературы — точно так же, как трагедия «Гамлет» представляет собой художественное, а не историческое достижение: мало кого волнует, правильно ли Шекспир описал положение дел в датском государстве. Для России, конечно, такая абстрагированная нейтральность наступит не скоро, но такие эмоции не должны влиять на художественную оценку творчества писателя». (Там же).
- 33. Conquest R. Colyma. Arctic Death Camps. New York. 1978. P.16.
- 34. Эти данные, впервые обнародованные магаданским историком А.Г. Козловым, ныне вошли в широкий обиход.
- 35. Подробнее см: Книга. обманувшая мир (об «Архипелаге ГУЛАГ» — начистоту). Сборник критич.статей и материалов / сост. В.В.Есипов. — М.: Летний сад, 2018.
- 36. Многочисленные свидетельства о недобросовестности Д. Волкогонова как историка приведены здесь: http://savok.name/forum/topic/758-volkogonov-dmitrii-antonovich. Следует заметить, что Д. Волкогонов, первым получивший доступ к секретным архивам КГБ и ЦК КПСС, самочинно передал значительную часть копий этих документов в Библиотеку Конгресса США. См. Мурин Ю. Двадцать центов за гостайну — URL: http://www.sovsekret...es/article/1835http //www.sovsekret...es/article/1835 http://www.sovsekret...es/article/1835
- 37. Это интервью под заглавием «Жизнь и смерть Варлама Шаламова» было опубликовано Д. Глэдом в эмигрантском журнале «Время и мы» (Нью-Йорк), 1992, No115.
- 38. Показательно, что в рецензии на издание «Колымских рассказов» в переводе Д. Рейфилда другой известный британский славист Р. Чандлер без обиняков (и уже без кавычек) заявил о Шаламове: «Троцкист, впервые арестованный в 1929 году, провел 20 из следующих 25 лет на Колыме». (Financial Times, January, 17, 2020). Между тем, и Чандлеру, и Рейфилду должно быть известно «Краткое жизнеописание» Шаламова, где он подчеркивал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 гг. на стороне оппозиции», сделав специальное примечание: «Не Троцкого — к Троц- кому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии...». URL— https://shalamov.ru/library/35/.
- 39. На этот факт уже обращала внимание в своей глубокой статье о Д. Рейфилде «Перевод как насильственное обращение» американская исследовательница русского происхождения А.Осипова. См: https://shalamov.ru/critique/435/
- 40. Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир, 1999,No4. URL–https:// shalamov.ru/memory/117/1.html
- 41. Есипов В. Экология Шаламова. URL— https://shalamov.ru/critique/442/.
- 42. На то, что Рейфилд пользовался моей книгой, указывает такой фрагмент: «В детстве Шаламов вполне мог пересечься со своим заклятым врагом Иосифом Сталиным, регулярно (в 1911–1912 гг.) совершавшим прогулки из своей вологодской квартиры в главную городскую библиотеку». Он явно соотносится с эпизодом на стр. 48 книги ЖЗЛ: «Пожалуй, фантастично представить встречу ссыльного И. Джугашвили, прогуливавшегося по аллеям Вологды летом 1911 года... с четырехлетним малышом Варламом Шаламовым».
- 43. Первой на это обратила внимание А. Осипова. См. выше ссылку на ее работу.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.