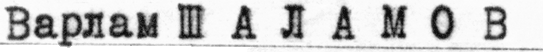
Ночные стрельбы Натана Злотникова
В архиве В.Т. Шаламова (РГАЛИ. Ф.2596, Оп. 3. Ед. хр. 152) имеется его рецензия на сборник стихов Н.Злотникова «Ночные стрельбы» (М.: Молодая гвардия, 1973). Она сохранилась в машинописи с авторской правкой. Такой вид материала говорит о его завершенности, но напечатать рецензию Шаламову нигде не удалось.
Очевидно, сборник «Ночные стрельбы» был подарен ему автором. Натан Злотников (1934-2006), работая в 1960-1970-е годы заведую- щим отделом поэзии журнала «Юность», часто встречался с Шаламовым, приносившим в редакцию свои стихи. Краткие, но очень теплые воспоминания Злотникова о Шаламове были опубликованы в «Юности» в 1987 году (No3). Шаламов ценил молодого редактора за чуткость, с интересом следил за развитием Злотникова-поэта. Об этом свидетельствует и рецензия, написанная с большой добро- желательностью. При этом Шаламов весьма резко, со свойственной ему прямотой и с привлечением разнообразного материала, ставит вопрос о борьбе с поэтической графоманией. Это, а также необычный стиль рецензии, не характерный для литературы 1970-х годов, вероятно, и стали причинами ее неопубликования.
В судьбе поэта — много опасностей. Есть испытание на безмолвие — при шумной известности. Есть испытание на безвест- ность. Есть испытание славой, модой. Есть испытание сплетнями. Есть испытание отсутствием сплетен. Есть проба богатством. Есть проба бедностью. Есть проба любовью. Есть проба ненавистью. Есть испытание своим талантом. Есть испытание чужим талантом. Словом, опасностей не перечесть.
Но одно из самых страшных, самых коварных испытаний есть испытание чужими стихами из самотёчного портфеля редакции. У Льва Толстого был резиновый штамп, которым писатель надежно ограждал себя от рифмованного бреда, наполнявшего ежедневно прихожую в его квартире.
Штамп этот — он и сейчас хранится в Яснополянском музее — содержит одну лаконичную, совсем не толстовскую фразу:
«Уважаемый /имя-рек/
Лев Николаевич прочёл Ваши стихи и нашёл их очень плохими.
Секретарь А. Толстая»[1].
Граф боролся с графоманами надежным способом.
Поток стихов с тех пор не ослабел. Проблема резинового штампа осталась.
Редакции всех журналов и издательств держат в наше время в штате квалифицированных поэтов, которые, забросив собственное творчество, вынуждены заменять жестокость резинового штампа мягким и авторитетным личным бракеражем. Борьба со стихами составляет проблему No 1 в нашей издательской жизни, как это подтверждено сердитыми и страстными выступлениями Станислава Куняева и Александра Михайлова и холодной злостью Дмитрия Хренкова[2]. Когда-то я сам давал формальную подписку Брику и Третьякову при вступлении в «Новый ЛЕФ», что не пишу и не буду писать стихов.
Этот анекдотический случай я привожу затем, чтобы напомнить, что борьба со стихотворной макулатурой велась всегда и никто не следил за этим так, как Маяковский. В сущности вся его жизнь была борьбой с макулатурой, с халтурой.
Заявление Ахматовой о «золотом веке советской поэзии»[3] звучало по меньшей мере безответственно и ничего, кроме вреда, принести поэзии не могло, снижая критерии, искажая оценки, хотя разобраться в вопросе «стихи это или не стихи» для престарелой поэтессы не представляло большого труда.
Один из новейших мемуаристов напоминает о книжке Абрамова «Как писать стихи», вышедшей в начале века, как об издании, параз- итирующем на всеобщем интересе к поэзии того времени[4]. На самом же деле книжка Абрамова отнюдь не была халтурой. Абрамов был автором известного и уникальнейшего труда «Словарь русских рифм» — издание, ставшее ненужным из-за победы неточной рифмы в истории русской поэзии.
В книжке «Как писать стихи» Абрамов доказывал, что научиться писать стихи нельзя, что стихи — это наследство, талант, что всякий, берущийся за стихи, должен овладеть очень высокой культурой.
Здесь же были приложены образцы самой современной поэзии русской.
Книжка по мысли автора и издательства должна была отучить молодежь от стихов. Это была вариация знакомого нам резинового штампа. Резиновым штампом Толстой оберегался, конечно, не от крестьян. Любого крестьянского поэта, даже полуграмотного, втащили бы за руки в графскую столовую.
Именно из-за этого штампа отказался Дмитрий Иванович Менделеев приехать в Ясную Поляну для бесед с графом. Приглашение было передано Менделееву Сергеем Львовичем. Менделеев ответил жёстко: «Ваш отец гениален, но глуп. Мы не найдём общего языка». И отказался от знакомства. /Менделеев в глазах современников[5]/
Но проблема резинового штампа осталась.
«Юность» — массовый молодежный журнал с колоссальным тиражом в два с половиной миллиона экземпляров — принимает на себя главный удар этого страшного потока стихотворной макулатуры.
Поступать, как Лев Толстой, молодежный советский журнал не может. На каждое стихотворение, как бы оно ни было бездарно и плохо, «Юность» дает ответ — убедительный и авторитетный, если только графомана можно в чём-нибудь убедить.
Четыре талантливых поэта, четыре высококвалифицированных специалиста редчайшего жанра, ежедневно читают для «Юности» чужие стихи[6].
Каждый из этих поэтов наделен достаточным даром, чтобы немедленно встать в первые ряды современной советской поэзии.
Дар, талант, время, знания приносятся в жертву необходимости бороться с графоманами, создавая прямо-таки гамлетовские противоречия — ведь жертвуется собственная жизнь на этот макулатурный хлам.
Четыре поэта в донкихотовских плащах рубят и рубят «актированные» стихи на пороге журнала. Но плащи — Дон Кихотовы, и часто случается, что эти поэты борются с ветряными мельницами, на которые дует ветер блата или дыхание каких-либо высших сфер. Тут много опасностей чисто «физиологического» характера. Дело ведь не в том, что такой поэт может превратиться в циника, разоча- роваться в «божественном ремесле», а в том, что мозг консультанта будет иссушён, не оставит места для собственного творчества. Мозг — и поэт! — превратятся в переводчика, утратят способность к эмоциональному взрыву, при котором только и возможно творчество.
Опасностей очень много для работника в бюро бракеража…
Одним из четырех русских поэтов, заведующих поэтическим отделом «Юности», и является Натан Злотников.
Натаном Злотниковым выпущены две книжки стихов — «Ночные стрельбы» в издательстве «Молодая Гвардия» и «Единственный дом» в «Советском писателе».
После того, как мы узнали, что Злотников читает чужие стихи в течение многих лет, да еще пишет собственные — мы преисполнены не только уважения, не только доверия, не только удивления — ибо писать стихи, работая в редакции литературного журнала — это чудо, которое превосходит само чудо поэзии. Надо ведь не просто доказать, что тебя не иссушило чтение чужих рукописей, чужих душ. Для того, чтоб оценить чужое, надо напрячь свой мозг на мгновение, чтобы попытаться разгадать чужую тайну, надо поставить извилины своего мозга в чужой ритм, чужой словарь, чужой душевный строй.
Мозг Злотникова устоял в этом потоке чужих стихов и нашел силу сохранить свой строй, свой лад.
Вот одна из сил, которая дает Злотникову место в поэзии:
Вблизи деревьев быть так хорошо,
Наскучит повседневная работа
Придёшь сюда, где слабый корешок
Бесстрашно погружается в болото.
И вдруг поймёшь: совсем не просто им,
Деревьям в этом небе непрогретом,
Почти не согреваясь кратким летом
Расти перед лицом полярных зим
Держаться на покатом валуне,
Тянуть за птицей тоненькую ветку
И посылать в опасную разведку
Тот корешок, который виден мне.
Единственный полярный гарнизон,
Оставшийся зимою без укрытий,
Деревья видят длинный ряд событий,
Когда земля уйдёт из снега в сон.
Да, надобно сберечься и суметь
Здесь оказаться для людей пригодным,
И зеленью победной прозвенеть
Над океаном, мрачным и холодным.
Это — много квалифицированней и много тоньше соответствующих этюдов Заболоцкого[7]. Заболоцкий тут — не предок и даже не сосед — настолько острее перо Злотникова.
Автору природы-«прекрасной крепости» хорошо знакома тайна звуковых повторов:
Оса висела у виска,
Не жалила, а все жалела
И тело желтое песка
И моря голубое тело.
Почти сарьяновский пейзаж вычертила эта нерешительная оса. Чувство природы, без которого нет настоящего русского лирика, в высшей степени присуще Натану Злотникову.
Злотников — наблюдатель, знаток и поэт не только русской флоры, но и в значительной степени — фауны Советского Союза, живой, дикой природы. В обоих этих сборниках поэт сказал новое слово в поэзии. Каждое наблюдение поэта — это акт первичного зрения, природа, увиденная в первый раз. Без всякого приспособления к текущим литературным модам, Злотников знает, что всякое стихотворение должно быть новостью, открытием, малой или большой, но обязательно новостью.
В сборнике «День поэзии» (1973) напечатано великолепное стихотворение Злотникова:
На Саласинские болота
Две уточки летят,
Две серые, зовут кого-то.
Уж не своих утят?
Но это место позабыто
Тридцатый год,
Все утки ищут для транзита
Иных болот.
Вы заблудились, вы сверните
С дороги дорогой,
В холодно-голубом зените
Вам ляжет путь другой.
Он труден. Что ж.
Но в круговерти
И зим и лет
Всё трудно, даже лёгкой смерти
Уж в мире нет.
Освенцим и Хатынь,
Треблинка
Под вами Бабий Яр.
Там слышит каждая былинка
Сердечек двух удар.
Что ветры вам и туч лавины,
Дождь проливной.
Летите вы — две половины
Души одной.
Ее разъять уж не могу я
Над стрелкой камыша...
Летите: плача и тоскуя
И крыльями шурша.
Это — пример самой успешной рекомендации пейзажной лирики, как лучшего рода гражданской поэзии.
Обращает на себя внимание и стихотворение прозаического происхождения: «Покинул я литейный цех». В чем-то оно перекликается, а в чем-то полемично с Казинским «Рубанком»[8]. Другие времена — другие песни, а задача поэта — одинакова.
У поэта такой высокой квалификации обязательно должны быть предшественники, певцы русской природы, которые водили бы его пером, составляли бы для него школьные прописи, учили добру и злу…
Но кто именно?
Баратынский? Тютчев? Фет? Нет.
Заболоцкий? Нет, нет.
Злотников прошел хорошую учебу у русских классиков-реалистов. Только это не поэты, а прозаики.
Можно назвать целых два имени, чье творчество самым теснымобразом связано с «Единственным домом» и «Ночными стрельбами». Это Иван Тургенев, написавший «Записки охотника», и Сергей Аксаков с книгой «Записки ружейного охотника».
В своем охотоведении[9] творчество Злотникова не уступает самым точным записям Аксакова, а в человековедении превосходит тургеневскую книгу. Сборнички Злотникова — это карманный охотоведческий словарь, пособие по ружейной охоте.
Поэзия Злотникова — в концентрированном (то есть в истинно поэтическом) виде вобрала в себя главные идеи этих двух выдающихся книг русской прозы.
Тургенев и Аксаков — это два автора, чьи книжки как бы в ягдташе Злотникова.Но не они диктуют стихи. Злотников пишет их сам по стихотворным правилам второй половины двадцатого века. По впечатлению они соответствуют аксаковской дотошности, уникаль- ной точности — и тургеневскому гуманизму.
Теперь насчет особенностей злотниковской фауны. С его стихами в русскую поэзию входит, вернее, влетает огромное количество птиц. У поэта нет почти ни одного стихотворения, в котором не встречалась бы птица. И это не гуси-лебеди, не соловьи, не канарейки, не по- пугаи. Нет у Злотникова просто «птицы». У Злотникова действуют бакланы, чайки, кукушки, даже выпь — впервые в русской поэзии. А больше всего — уток. Здесь тысячи утиных перелетов. Всё это объясняется просто. Злотников — охотник. Охотник, как Тургенев, охотник, как Аксаков:
Две тулки, да ягдташ,
Да сапоги по пояс...
Прекрасен выбор ваш.
Живи не беспокоясь.
Шагай, молчи, дыши,
Приглядывайся, слушай,
Хоть лес и камыши
Звучат под вечер глуше.
И белая вода
Совсем чужда движенью,
В ней утка и звезда
Смыкают отраженье.
Злотников — гуманист, не искатель добра, а его обладатель, щедро делящийся с первым встречным своим сокровищем. Как последова- тель Тургенева, он включил в свои стихи не только уток, но и людей. «Музыкантша», «Перевозчик», «Девочка» и многое-многое другое того же тургеневского плана.
Уж если в стихах Злотникова является просто птица, то в таких не типических обстоятельствах, что автору приходится подробно объяснять свой охотоведческий пробел.
Губа Лихая.
Ветер дует в лица
И снег не в силах долететь до дна
И снегом заштрихованная птица
Над сумрачной водой летит одна.
Зелёная и сизая, рябая,
Я с нею не был до сих пор знаком.
Летит, летит, весь снег с воды сгребая
Крылом заиндевевшим, как совком…
То, что в стихах Злотникова впервые в советской поэзии появилась «выпь», я считаю весьма примечательной, весьма положительной тенденцией — движением к точности.
Это Игорь Северянин гнал своё ландо «сквозь природу»[10].
Для Злотникова такая позиция была бы просто непонятной. Современный поэт оснащен ботанически и зоологически, не говоря об эмоциональной стороне дела:
Баклан опустил крыло
И рухнул на океан.
И сердце мое зашло —
Так падал этот баклан!
Но из-за легкого, тонкого, нежного привкуса «мовы» (Злотников — украинец родом) стихотворение и рифма сохраняют всю свою добротность.
А вот образец стихотворения — БЕЗ ПТИЦ! — из которого видно, что автор владеет в совершенстве всей полнотой — и скупостью звуковой палитры современного русского стихосложения.
Зеленое поле,
И поезд зеленый над ним,
Все это во взоре
Закроет усталость и дым,
Зеленые ставни,
Зеленый оттенок воды,
Зеленой Купавны
Совсем молодые сады.
Уже нелюдимо,
Лишь поезд промчится опять
И необходимо
Закрывши глаза постоять
Чтоб хоть на мгновенье,
Среди тишины и полей
Замедлить движенье
Грохочущей крови моей.
Злотников — такой совершенный мастер стихосложения, что он увлекся реабилитацией «концовок» классического русского стихотворения Тютчевского типа.
Каждая концовка настолько тщательно и постоянно обрабатывается, что ясно, что именно концовка-то и писалась первой строфой стихотворения. Настолько это делается принципиально, что нет никакого другого решения стихотворной задачи.
Стихотворения обрабатываются почти с сонетной точностью. Последняя строфа — всегда вывод, формула, афоризм.
Почему совершенство тут плохо?
Поэзия — всегда поиск, рождение истины в момент писания стихотворения. Грубо говоря, начиная первую строку, поэт не должен знать, чем он кончит стихотворение.
Природа относится, конечно, с полным доверием к последователю Тургенева и Аксакова, автору, который видит,
«как голубь бьётся с высотою,
Как бы запутавшись в силках».
Природа поможет Злотникову. Недаром после каждой поездки —Мурманск, Кемь, Ола — перо Злотникова — обыкновенное гусиное перо — наливается новой кровью, движется все увереннее. Поездки — его живая вода.
Вот заключительное стихотворение сборника — в нем 65 стихотворений.
В часы разлук, в часы печали
Душа чуждается затей
И хочется, чтобы звучали
Поближе голоса детей.
Пойду по берегу. Устану,
К заливу повернусь лицом,
Между водою и туманом
Баклан летает за птенцом.
И это белое свеченье
Некрепкого ещё крыла
Имеет высшее значенье
В краю ушедшего тепла.
Всё образуется. Погода
Тихонько к свету повернёт,
Вернётся солнце на полгода
И грянет птичий перелет.
Как видите, порядок строф и ход поэтической мысли почти идеальны. Это и есть единственный недостаток «Единственного дома», единственный промах «Ночных стрельб».
Подготовка текста, публикация и комментарии Дарьи Грицаенко.
Примечания
- 1. Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах. М.ГИХЛ., 1956. Т.81. С. 287. Шаламов также упоминает этот штамп в эссе «Пастернак» (ВШ7, 4, 589).
- 2. Речь идет об участниках литературной дискуссии 1970-х гг. Александр Михайлов и Дмитрий Хренков — критики, литературоведы.
- 3. Имеется в виду высказывание А. Ахматовой в ее интервью журналисту АПН А.Авде- енко: «По-моему, сейчас в нашей поэзии очень большой подъем. <...> Такого высокого уровня поэзии, как сейчас, думаю, не было никогда» (опубликовано в «Вечерней Москве», 1962,No52). Шаламов не мог принять столь высокую оценку современной поэзии, о чем он писал также в статье «Поход эпигонов» (ВШ7, 5, 69).
- 4. Речь идет о книге Абрамов Н. Дар слова. Искусство писать стихи, 1909.
- 5. Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. — М.: Атомиздат, 1973. С. 205.
- 6. Имеются в виду поэты - сотрудники отдела поэзии «Юности»: Н.Злотников, О. Чухонцев, Ю.Ряшенцев, С.Дрофенко, которых Шаламов хорошо знал. Упоминаются в письме А.К.Гладкову - ВШ7, 6, 520-521. Подробнее: Есипов В. Шаламов в «Юности» // Юность, 2012, No6.
- 7. Вероятно, Шаламов считал, что у Н. Заболоцкого нет того глубокого сочувствия природе, которое он находил у Злотникова. Ср. стихотворения Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» (1947), «Вечер на Оке» (1947), «Одинокий дуб» (1957).
- 8. В стихотворении В.Казина «Рубанок» (1920) лирический герой пытается залечить горечь расставания с женщиной с помощью грубой физической работы. В 1970-е годы такой мотив в поэзии был явно архаичен.
- 9. Шаламов имеет в виду охотничьи мотивы стихов Н.Злотникова, связанные биографически с его жизнью на Урале и в Заполярье.
- 10. Отсылка к стихотворению И. Северянина «На островах» (1911): «В ландо моторном, в ландо шикарном / Я проезжаю по Островам, / Пьянея встречным лицом вульгарным / Среди дам просто и — «этих» дам».
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.
 Назад
Назад