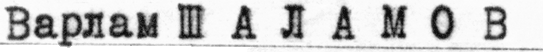
Варлам Шаламов и «прогрессивное человечество»: суть и последствия принципиальных расхождений
Понятие «прогрессивное человечество» (или сокращенно «ПЧ») неоднократно фигурирует в записных книжках Варлама Тихоновича Шаламова первой половины 70-х годов. Применялась Шаламовым эта саркастическая формулировка по отношению к определенной, достаточно влиятельной части интеллектуального андеграунда и диссидентства, склонной основываться на идеях, резко противоположных советской официальной идеологии, оппозиционных ей, но таких же догматичных и непримиримых[1]. Отторжение Шаламова от подобной среды и ее установок проявилось в конкретных принципиальных поступках писателя, а также — в его серьезнейших расхождениях с А.И. Солженицыным (в чьих произведениях, и особенно — в публицистике, идеология «прогрессивного человечества» представлена в предельно концентрированном виде) и с некоторыми конкретными диссидентскими кругами и сообществами 60-х — 70-х годов.
В своих записных книжках Шаламов характеризует эту ситуацию с абсолютной прямотой: «Неужели по моим вещам не видно, что я не принадлежу к «прогрессивному человечеству»?», — и в следующих фразах той же записи 1971 года упоминает, в подтверждение обоснованности подобного риторического вопроса, свои рассказы «Лучшая похвала» и «Необращенный»[2].
Приглядевшись к обоим рассказам, можно убедиться в том, что Шаламов сослался на них отнюдь не случайно.
По рассказу «Лучшая похвала», где с подчеркнутым сочувствием описывается старый эсер Андреев (встреченный писателем в 1937 году, в камере Бутырской тюрьмы), видно, что Шаламов не испытывал характерной для некоторых диссидентских кругов враждебности к «левому» движению и его представителям. Решительно не принимая советско-сталинский режим, писатель в то же время сохранял верность социал-демократическим идеям, был сторонником эволюционных трансформаций, направленных не на радикальный слом, а — на постепенное очеловечивание строя. Этой позицией было обусловлено, в частности, и нежелание Шаламова уходить в абсолютное литературное подполье, и — его стремление сохранить хотя бы минимальные возможности выхода к широкой читательской аудитории, осуществлявшегося благодаря стихотворным публикациям в легальной советской печати.
Что же до рассказа «Необращенный», то в нем отражены другие, весьма острые аспекты шаламовской позиции. Речь в рассказе идет о непростых взаимоотношениях писателя с тайным христианским кружком, с которым ему довелось столкнуться во время учебы на фельдшерских курсах при колымской лагерной больнице.
«Нина Семеновна была сгорбленная зеленоглазая старая женщина, седая, морщинистая, недобрая», — этими скупыми и емкими словами описывает Шаламов свою руководительницу фельдшерской практики. Несчастная, очутившаяся за решеткой, потерявшая всю семью во время войны врач-терапевт нашла для себя утешение в исступленно-фанатичной религиозности, и — имела, разумеется, право на свой выбор. Проблема, однако, в другом: в избыточно-настойчивом стремлении обращать в свою веру, игнорируя особенности индивидуальной позиции человека, по отношению к которому подобные попытки предпринимаются.
Со всей наглядностью это отражено в приведенном в рассказе разговоре автора с врачом-наставницей:
«— У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уважением отношусь…
— Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы — воскресший?.. У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?
Лицо Нины Семеновны сморщилось, потемнело <…>.
— Нет <...>. Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? — Фразы ворочались в мозгу, причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что я давно забыл такие слова. И вот вновь явились слова — и главное, повинуясь моей собственной воле (здесь и далее в цитатах курсив мой — Е.Г.)».
К весьма показательным последствиям приводит отказ автора влиться и жить по законам тайной внутрилагерной группы:
«Теплые пальцы Ольги Томасовны (сестры-хозяйки, подчинявшейся пожилому врачу — Е.Г.) взяли меня за локоть. Темные глаза ее смеялись.
— Идите, идите, — сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери. — Вы еще не обращенный. Таким ужин у нас не дают». На удивление перекликается с этой ситуацией инцидент, относящийся к совсем другому этапу биографии Шаламова. Речь идет о вызвавшем у писателя обоснованное возмущение разговоре с Солженицыным первой половины 60-х гг. Беседа эта была зафиксирована Шаламовым все в тех же, упомянутых выше записных книжках:
« — Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый (имеется в виду А.И. Солженицын — Е.Г.), — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет (этого), поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой — атеист, или просто скептик, или сомневающийся.
— А Джефферсон, автор Декларации?
— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. <...> Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.
— Я даже удивлен, как это вы ... И не верить в Бога!
— У меня потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.
— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.
— Тем более.
— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе»[3].
Оговорим, однако, что неприятие показного благочестия в шаламовском случае не носит характер прямолинейного атеизма. Подлинно высокие духовные ценности (в самом общем и глубинном смысле) для Шаламова были непреложными.
Да и сам по себе рассказ «Необращенный» (если, собственно говоря, вернуться к нему) по существу носит характер философской притчи, содержание которой не сводится к проблеме взаимоотношений Шаламова с церковью, и, в целом, с религией. Речь идет о другом — об отторжении писателя от системы любых (не обязательно — религиозных) бездушных ритуалов и железных постулатов, ограничивающих свободу мысли и возможности самовыражения личности, индивидуальности.
Подобная позиция Шаламова шла вразрез с неписаными законами существования «прогрессивного человечества», ориентированного на беспрекословное подчинение личности тем или иным коллективным идеологическим кодексам.
Разумеется, выразительным проявлением расхождений Шаламова с «прогрессивным человечеством» был сознательный отказ писателя от участия во взвинченной, оголтелой борьбе с советским режимом. Но не менее важны в данной ситуации и различия в осмыслении некоторых нравственных аспектов животрепещущих идеологических проблем.
Думается, что есть смысл рассмотреть принципиальные отличия позиции Шаламова от установок «прогрессивного человечества», по крайней мере, по двум принципиальным вопросам мировоззренческого порядка:
1. Является ли благом страдание?
В диссидентской среде отчетливо ощущалась склонность безоговорочно ориентироваться на позицию людей, ставших жертвами советской карательно-репрессивной машины. Сочувствие подобным людям, стремление оказывать им помощь все более и более переходило в готовность считать предельно ожесточенный взгляд некоторых бывших узников ГУЛАГА на советскую систему и на пути отказа от нее единственно правильной точкой зрения. Показательным примером подобной установки является культ Солженицына, получивший распространение в этих кругах.
Упомянутые тенденции приводили подчас к тому, что в диссидентских кругах активно процветала апология страдания как такового. С благородной искренностью фиксировал Юлий Даниэль в письмах из заключения ту оторопь, которую вызывала у него позиция иных солагерников-диссидентов, опиравшихся на идеи Солженицына: «Мне усиленно объясняют, <...> что в страдании (а некоторые даже утверждают, что только в нем) есть радость; <...> что нынешнее мое состояние может оказаться кульминацией всей жизни, ее взлетом, расцветом. <...>. Но я никак <...> не приемлю этого. Я могу согласиться, что мы должны расплачиваться за то, что делаем, за то, чего не можем не сделать, — но радоваться этой расплате? хвалить ее? видеть в ней нечто облагораживающее, нужное человеку? Это выше моего понимания»[4].
В отличие от Даниэля с его светлым мировосприятием, Шаламов был напряженно сосредоточен на страшных впечатлениях, вынесенных из ада Колымы. С невероятной силой воссоздано этим писателем чувство ужаса от соприкосновения с потенциалом зла, существующим внутри каждого из людей и выявляющимся в нечеловеческих лагерных условиях. Но именно потому, что Шаламов осознавал уродующее воздействие лагеря на человеческую душу, он не считал колымский опыт меркой и средством для решения проблем обычного людского существования.
«Автор «КР» («Колымских рассказов» — Е.Г.) считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. <...> Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря»[5], — эти слова Шаламова из эссе «О прозе» являются не просто общим программным лозунгом. Есть основания предполагать, что в них присутствует и полемический подтекст, основанный на отторжении от упомянутых выше представлений «прогрессивного человечества».
2. Надо ли мстить?
Любые возможности примирения с людьми, несущими конкретную ответственность за преступления советско-сталинского времени, Шаламов решительно отвергал. Свидетельства тому — вспышки ярости, проявлявшиеся в некоторых жизненных ситуациях. Показательным примером подобного рода является случай, упомянутый в книге В.В. Есипова: «Стоит напомнить, что Шаламов, прекрасно знавший о роли Молотова в сталинских репрессиях, встретившись с ним, еще бодреньким старичком, в середине 1960-х годов в Ленинской библиотеке, хотел ударить его[6] — «дать плюху», как он выражался, — но не решился, о чем потом сильно сожалел»[7]. В свете подобных обстоятельств, ничуть не случайными выглядят и выразительные метафорические характеристики, которые подчас давал Шаламов своей прозе: «Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму»[8].
Вместе с тем, подобные эмоции Шаламова не распространялись на рядовых граждан, лояльных советскому строю, но не повинных в репрессиях. Решительно не склонен был писатель ни призывать к тотальным антикоммунистическим судилищам, подобным Нюрнбергскому процессу над гитлеровским режимом, ни упиваться мечтами о военизированных расправах с коммунистическими диктатурами. Этим настроения Шаламова существенно отличались от агрессивных настроений Солженицына (доходившим порой до ожесточенности под стать эмоциям одного из его же собственных персонажей — дворника Спиридона из «В круге первом», в исступлении грезящего об атомной бомбе, падающей на Советский Союз: пускай, дескать, и сам погибну, и «еще мильен людей» погибнет, но зато взрыв уничтожит и «Отца Усатого», и «все заведение их с корнем»). Но точно так же далека в этом смысле была позиция Шаламова от некоторых запредельно-желчных эмоций другого прославленного нобелевского лауреата — Иосифа Бродского, весьма подверженного в частных своих человеческих проявлениях идеологии «прогрессивного человечества». Подтверждением этого служат не так давно вышедшие в свет воспоминания американских друзей поэта — Эллендеи и Карла Профферов.
По очеркам Профферов отчетливо видно, что бравировать развязно-антикоммунистическими высказываниями Бродский был склонен еще в период жизни в Советском Союзе — и показателен в этом смысле один из разговоров упомянутой супружеской четы с поэтом и его другом, переводчиком Андреем Сергеевым: «К сожалению, бóльшая часть вечера ушла на долгий и бесплодный спор о <войне во> Вьетнаме. <...> Особенно горячился Андрей: он утверждал, что очень глупо с нашей стороны не уничтожать коммунизм везде, где только можно. <...> Иосиф склонялся скорее на его сторону, хотя в тот раз выступал своего рода примирителем <...>. Так что худшим, что мы тогда от него услышали, было следующее: мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда (во Вьетнам — Е.Г.) и сбросить на них водородную бомбу. «Это очень печально, но они же не люди», — добавил он»[9].
К примерно сходным настроениям, по свидетельствам тех же проницательных мемуаристов, склонен был Бродский и в позднейшие, эмигрантские годы своей жизни: «И все же сохранялось представление у чувствительных и мыслящих людей, что капитализм жесток и русская революция не во всем была плоха. В этом вопросе нюансы Иосифа не интересовали <...>. Например, Иосиф оправдывал генералов-убийц в Аргентине на том основании, что страной могла завладеть коммунистическая партия и благо большинства перевешивает смерть немногих. Эта позиция говорила о непонимании конкретики, стоящей за обобщениями. <...> Из-за своего предубеждения против всего, что представлялось ему антиамериканским в политике, Иосиф не воспринимал наших нонконформистов, многому противившихся и непослушных. Поскольку все укладывалось в схему: «если это против Советов, я за это», Иосиф даже не понимал, сколько у него общего с американскими скептиками»[10]…
Вернемся, однако, к Шаламову. «Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века» — упомянутое программное высказывание писателя, завершающее его рассказ «Перчатка», может показаться сходным с настроениями «прогрессивного человечества» лишь в случае, если рассматривать эти слова в отрыве от вполне конкретного смыслового контекста.
Присмотримся внимательнее к написанному Шаламовым в том же рассказе, чуть выше приведенной нами концовки: «Я обязан реальной помощью <...> трем реальным людям 1943 года. Следует знать, что они вошли в мою жизнь после восьми лет скитаний от золотого забоя прииска к следственному комбинату и расстрельной тюрьме <...>. К этому времени я завидовал только тем людям, которые нашли мужество покончить с собой во время сбора нашего этапа на Колыму в июле тридцать седьмого года в этапном корпусе Бутырской тюрьмы. Вот тем людям я действительно завидую — они не увидели того, что увидел я за семнадцать последующих лет».
И — итог этого пронзительно-исповедального высказывания: «У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому». Иными словами, размышления писателя выходят в данном случае далеко за рамки отношения к тому или иному политическому режиму. Речь идет о проблеме экзистенциального характера — говоря конкретнее, о все том же нравственном несовершенстве человека. Именно этот вывод, который Шаламов вынес для себя из тяжелейших лагерных испытаний — и хотя (как уже было упомянуто нами выше) писатель их не считал позитивным опытом, без учета этой ужасающей, запредельно-жестокой стороны существования он уже попросту не мог воспринимать реальность, мир, жизнь как таковую.
В чем же состоит, по Шаламову, моральный противовес подоб- ным неизбежным условиям бытия? Многое проясняет в этом смысле концовка рассказа «Надгробное слово».
...В рождественский вечер заключенные, греющиеся у печки, рассказывают друг другу о том, что им хотелось бы делать после освобождения. Мечты этих несчастнейших людей — по большей части исчерпывающиеся желанием наесться досыта и насобирать окурков — носят такой же жалкий, ущербный характер, как и вся их лагерная жизнь.
Радикально контрастирует с подобными речами неожиданное высказывание персонажа по имени Володя Добровольцев. Слова эти воспринимаются как принципиальное, твердое кредо этого героя:
«А я <...> хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силы плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами».
Казалось бы, позиция Добровольцева, заявленная в высказывании, носит не просто протестный, но даже какой-то безбашенно-бунтарский характер. Тем не менее, писатель подчеркнуто оговаривает, что голос Володи в момент произнесения приведенных слов «был покоен и нетороплив».
Здесь-то и есть смысл для еще одной отсылки к Иосифу Бродскому — но не к сугубо приватным задиристым его высказываниям, а к той предельно глубокой интерпретации, которую получают рассматриваемые нами проблемы в его серьезных, по-настоящему значительных сочинениях. В данном случае, имеет смысл вспомнить одно из англоязычных философских эссе поэта «Актовая речь», написанное в 1984 году на основе выступления перед выпускниками американского Williams College. Посвящено это эссе рассмотрению христианского постулата о необходимости подставить левую щеку обидчику, нанесшему удар по правой.
Никоим образом не посягая на значимость постулата, Бродский, в то же время, дает ему весьма необычное толкование. Интерпретирует не как призыв к покорности и кротости, но как предложение особой формы противостояния Злу, ставящей жертву, при всей ее внешней податливости, «в весьма активную позицию, в положение духовного агрессора». Отдавая врагу больше, чем он просит, мы тем самым, как полагает поэт, обессмысливаем его устремления, выбиваем у него почву из-под ног. Создаем ситуацию, при которой запросы Зла «оказываются ничтожными (обратим внимание на это меткое слово. — Е.Г.) по сравнению с <...> уступчивостью, обесценивающей ущерб».
При этом нобелевский лауреат подчеркивает, что условия, в которых применим подобный метод — не ситуация «честной борьбы», но другая, совершенно катастрофическая ситуация, «где человек с самого начала занимает безнадежно проигрышную позицию, где нет шанса дать сдачи, где у противника подавляющий перевес». Приведенный тезис, в принципе, представляет собой обобщенную формулу, но, одновременно, его содержание (вне зависимости от изначальных задач автора эссе) вполне возможно принять и за весьма конкретную, точную характеристику порядков и нравов, господствующих в лагерях Колымы. Такой расклад лишь повышает степень уместности рассмотрения суждений Бродского в контексте «Надгробного слова».
Конечно же, различия между субъективным исповедальным высказыванием (случай Володи Добровольцева) и философской идеей, рассчитанной на общественное осмысление, различия между мечтами шаламовского героя о резком жесте и сознательным бездействием, предлагаемым в тексте Бродского, очевидны и неизбежны. Тем не менее, с формой противостояния Злу, предлагаемой нобелевским лауреатом, позицию Добровольцева сближает даже сам по себе ее парадоксальный характер.
Я хотел бы быть обрубком… Каких серьезных боевых действий можно ожидать от обрубка? Плюнуть им в рожу… Какой серьезный ущерб Злу, кроме нескольких минут физиологического дискомфорта, может нанести такой плевок? Чувствуется, что сама по себе бескомпромиссная твердость душевной и духовной установки для Добровольцева важнее результативности ее видимых проявлений, в которую не верят, судя по всему, ни персонаж, ни автор рассказа.
Другой, еще более существенный аспект близости с идеями эссе о подставленной щеке проявляется на уровне глубинной, психологической и мировоззренческой, подоплеки выбора Добровольцева. Совокупность авторских наблюдений, касающихся этого персонажа, побуждает нас предположить, что позиция Добровольцева зиждется не на слепой военизированной ярости (в духе эмоций солженицынского Спиридона), но (как и идея Бродского) на основательно осознанном презрении к Злу.
Как содержание, так и горько-ироническая интонация слов, завершающих шаламовский рассказ, свидетельствуют о том, что Добровольцев учитывает обстоятельство, зачастую ускользающее от сознания иных непримиримых борцов со Злом. Он понимает, что лагерные палачи и садисты по своей душевной сути предельно убоги и ничтожны (здесь-то и представляется уместным точно припомнить словечко, примененное Бродским). На месте души у этих отморозков — абсолютный нуль, зеро, достойное лишь брезгливого плевка.
Подобный дерзко-отстраненный взгляд, прочитывающийся за словами Добровольцева, в данном случае воспринимается не симптомом взбалмошной гордыни, но ситуативной формой проявления подлинной духовной независимости по отношению к Злу и к людям, его вершащим. Или, иначе говоря, проявлением внутренней свободы.
Расхождения Шаламова с «прогрессивным человечеством» привели к очень непростым последствиям — и при жизни писателя, и в период посмертного осмысления его судьбы и творчества.
Черты непреодолимой конфронтации Шаламова с определенными общественными кругами, до поры до времени носившей неявный характер, отчетливо проступили наружу в ситуации с открытым письмом писателя, появившимся 23 февраля 1972 года на страницах «Литературной газеты». В нем Шаламов давал резкую отповедь публикациям своих произведений в эмигрантских изданиях радикально-политизированной направленности. То обстоятельство, что подобные публикации носили пиратский характер, вызывало у писателя искренний протест. Точно так же и другие непростые мотивы, побудившие Варлама Тихоновича к подобному письму, отнюдь не состояли в каких-либо вульгарных устрашениях со стороны КГБ или Политбюро. «Версия о «принуждении» писателя <...> заведомо отпадает — речь шла об осознанной необходимости такого письма», — характеризует ситуацию биограф Шаламова В.В.Есипов[11]. Самое же главное состоит в том, что отмежевание от публикаций, при всей специфике внешней формы подобного шаламовского жеста, никоим образом не означало отказа писателя от самих произведений и их идей.
Один из существенных моментов, побудивших Шаламова к письму, особо был обозначен писателем в дневнике: «Почему сделано это заявление? Мне надоело причисление меня к «человечеству» (слово «прогрессивное» здесь пропущено, но подразумевается — Е.Г.), беспрерывная спекуляция моим именем»[12]. Ниже, в той же записи, Шаламов возвращается к той же теме, которую уже затрагивал в цитировавшейся нами выше записи 1971 года: «Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе «Необращенный», написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам».
Процитированная запись Варлама Тихоновича, разумеется, носила закрытый, сугубо исповедальный характер. Вместе с тем, настроения, присутствовавшие в ней, ощущались и между строк шаламовского открытого письма. Незамеченными они, конечно же, остаться не могли. Сразу же после публикации письма по неформально-андеграундным кругам стали распространяться навязчивые мнения о том, что Шаламова сломали, что его выступление в «Литгазете» является сдачей позиций, а, возможно, даже следствием возрастной психической неадекватности. «... Так мы поняли все, что — умер Шаламов», – в концентрированной форме выразил подобные настроения Солженицын в первом издании «Архипелага». Многие люди, ранее всячески стремившиеся засвидетельствовать свое почтение автору «Колымских рассказов» и не сумевшие разобраться в подоплеке открытого письма, под влиянием подобных разговоров отвернулись от Варлама Тихоновича.
Подобная упорная установка на непонимание, проявленная по отношению к Шаламову, лишь усиливала неизбывный трагизм судьбы этого предельно независимого, бескомпромиссного человека и писателя, ничем не поступившегося и ни в чем себе не изменившего.
По-своему причудливым образом все обернулось в постсоветский период. Круги, во многом продолжающие линию «прогрессивного человечества» былых времен, стали превозносить Шаламова и возводить на щит в качестве разоблачителя советской системы. Характерным явлением начала 90-х годов воспринимаются сейчас назойливые попытки искусственно представить Шаламова как некоего единомышленника Солженицына, микшировать разногласия между этими двумя фигурами. Несколько изменилась в этом отношении ситуация после того, как в 6-м номере «Знамени» за 1995 год были напечатаны материалы записных книжек Шаламова, проливающие свет на реальные обстоятельства — и сам Солженицын отреагировал на публикацию в своем предельно несправедливом и тенденциозном очерке «С Варламом Шаламовым» [13].
Тем не менее, сохраняется установка методично внедрять в общественное сознание неточные представления о личности и творчестве Шаламова, искусственно подстраивающие его объемную фигуру под представления манихейского, упрощенно-антикоммунистического толка. Проявлениями таких поветрий выглядят, в частности — концепции кинематографических работ о Шаламове: сериала «Завещание Ленина» (сценарий Ю. Арабова и О. Сироткина, постановка Н. Досталя; 2007) и фильма «Сентенция» (сценарий и постановка Д. Рудакова; 2020), а также сетевые публикации Д. Нича.
В свете подобных обстоятельств насущной задачей представляется очищение фигуры Шаламова от приросших к ней мифологизированных наслоений, затрудняющих адекватное восприятие личности и творчества писателя.
Примечания
- 1. Показательно, что Шаламов в своей формуле «ПЧ» пародирует известный штамп партийной пропаганды «... и все прогрессивное человечество». Иногда он употреблял эту формулу и в ином контексте, применительно к другим эпохам. Например, в письме И.П. Сиротинской 1973 г. Шаламов писал о некоторых своих знакомых, участниках оппозиции 20-х годов — «интеллигенты тогдашнего прогрессивного человечества» (ВШ7, 6, 500).
- 2. В. Шаламов. Записные книжки 1954 — 1979 гг. (ВШ7, 5, 332). При этом Шаламов подчеркивает, что «Необращенный» написан еще в 1957 г.
- 3. В.Шаламов. Записные книжки 1954 — 1979 гг. (ВШ7, 5, 362).
- 4. Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу...»: Письма из заключения. Стихи. М.: Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья», 2000. С. 445 — 446.
- 5. Шаламов В. О прозе (ВШ7, 5,148)
- 6. Тот факт, что отправленный Хрущевым в отставку Молотов жил в центре Москвы, на улице Грановского, вел благополучное существование пенсионера, был предметом изумления и обсуждений во многих общественных кругах. Симптоматичной в этом смысле представляется одна из сюжетных линий написанного в первой половине 70-х годов романа Фридриха Горенштейна «Место» — осуществляемая главным героем книги, Григорием Цвибышевым, вместе с группой таких же, как он сам, молодых подпольщиков-экстремистов, попытка покушения на Молотова, не увенчавшаяся успехом.
- 7. Есипов В. Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012.(ЖЗЛ). С. 51.
- 8. Шаламов В. <о моей прозе>. Письмо И.П. Сиротинской (ВШ7, 6, 484)
- 9. Проффер Карл. Без купюр. М.: АСТ, Corpus, 2017. С. 210 - 211.
- 10. Проффер Тисли Эллендея. Бродский среди нас. М.: АСТ, Corpus, 2015. С. 48
- 11. Есипов В. Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012.(ЖЗЛ). С. 299.
- 12. Шаламов В. О письме в «Литературную газету»: дневниковая запись (ВШ7, 7, 367)
- 13. Ответ на мемуары Солженицына (Новый мир,1999, No4) был дан И.П. Сиротинской в том же журнале – 1999, No9; https://shalamov.ru/memory/117/2.html
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.